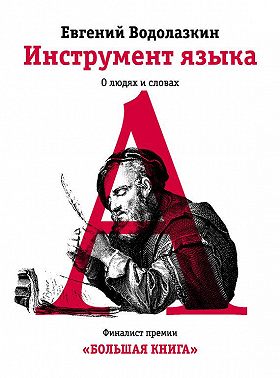Как нефилологи представляют себе филолога? Стараниями некоторых филологов, например, А. Аствацатурова, чьих "Людей в голом" пришлось забросить на фразе "Прочитав книги, люди глупеют окончательно...", создается унылый образ озлобленного неудачника, коллекционера несмешных каламбуров, который никак не простит папу за то, что папа не разрешал играть в индейцев (это я в середину заглянула). Приплачивают им, что ли, за поддержку негативной репутации русского интеллигента? Дабы вонючие мужики… в смысле, молодёжь обоего пола стать интеллигентнее не стремилась.
Именно поэтому очерки Е. Водолазкина хочется размножать на гектографе, совать в холодные ладони прохожим на улице, кричать из окошка в матюгальник: Дмитрий Сергеевич! не рекомендовал! Говорить и писать! “информация”! там, где можно! Просто сказать! “сведения”!
Чтобы знали и помнили. Чтобы самой не запамятовать.
Даря мне одну из своих книг, он перечеркнул помещенный редакторами список его наград и званий и написал: «Прошу не обращать внимания на эту безвкусицу».
Без всякой дидактики, без проповедей-отповедей Водолазкин разворачивает перед нами узорное полотно научного мира. Свою кафедру в Пушкинском доме называет он Лабораторией по восстановлению Древней Руси в сознании. А неизменный глава кафедры, Д.С. Лихачёв говорил о ней так: «Вы не понимаете, что живете на острове». Водолазкин продолжает: «Это был действительно остров, куда можно было причалить и работать, не обращая внимания на бушующие стихии. Все обитатели этого острова до сих пор готовы ответить за любую строчку, написанную ими и двадцать, и более лет тому назад».
Остров – это единомышленники, это ученики и учителя, это взаимная терпимость и уважение, это общее дело. Нам на материке слишком часто этого не хватает - общности. А также грамотной речи, вежливости, достоинства в поведении. Кое-кто даже привык притворяться: разве это ценно? Сейчас ценится совсем другое: быть хватким, амбициозным, энергичным! А на остров-то всё равно хочется.
В блокаду на улице его поразила куриная слепота. В глазах – мутный полумрак. Не видно ничего, кроме зыбкого контура крыш.
– Как же вы дошли до дома? – спрашивают его.
– Я смотрел вверх, – отвечает Дмитриев. – Следил за линией крыш. Она была видна на фоне неба.
Многие новеллы Водолазкина даже не о нравственности. О брезгливости, которая помогает делать выбор. Недаром, чтобы стать королём у троллей, Перу Гюнту пришлось наесться навозу. Основная задача – это не захотеть королевского престола троллей. Вообще не иметь никакого дела с этими фольклорными элементами. На Остров от них отплыть. В лес библиотечных полок уйти. В страницы, как в палые листья, зарыться.
Перезимуем, как сказал у Водолазкина один тролль.
Так что я ещё некоторое время буду мучить вас цитатами про Город, имена его улиц и небесную линию, про учёных-филологов и приблудных кошек, древнерусские рукописи и стенгазету «Не рекомендуется», немножко про троллей и как можно больше – про настоящих человеков. Кто заинтересовался, скачивайте на Виртуальной полочке. Спасибо за внимание.