- Главная
- Все подборки
- От Кафки до Глуховского: книги, которые помогут понять правосудие
От Кафки до Глуховского: книги, которые помогут понять правосудие
4
4.45
В том, как работают судебные процессы в литературе и в жизни, разбирался судебный корреспондент «Новой газеты» и ведущий телеграм-канала «Книги жарь» Сергей Лебеденко.
Новости о судебных процессах разного рода мелькают в лентах информагентств даже чаще, чем коронавирус. На днях к 23 годам лишения свободы за изнасилования приговорили голливудского продюсера Харви Вайнштейна, об опыте работы с которым актриса Роуз Макгоуэн написала пронзительную книгу «Смелая». Тем временем Стивен Кинг осудил решение издательства Hachette отозвать из публикации мемуары Вуди Аллена.
Аллен – еще один «звездный» голливудский босс, которого обвиняют в сексуальном насилии (приемная дочь режиссера Дилан Фэрроу заявляла, что Аллен растлил ее, когда ей было семь лет). Уголовный суд признал режиссера невиновным, но обвинения возобновились в 2018 году на волне подъема движения #metoo. Крупные компании стали разрывать контракты с Алленом, среди них была и Amazon Studios, против которой режиссер подал иск на 68 миллионов долларов компенсации ущерба. Суд тянется до сих пор.
Но как бы стороны этих конфликтов ни обменивались пикировками, сходятся они в одном: американским судьям доверяют все, хотя и критикуют их решения с юридических позиций. Презюмируется, что судьи выносят решения, руководствуясь буквой, духом закона и собственным экспертным суждением. А как обстоит дело с правосудием в России?
При этом судебные процессы как значимый ритуал политической и социальной жизни не раз попадали в поле зрения литераторов, и самым известным произведением на эту тему остается «Процесс» Кафки. Злоключения Йозефа К. настолько часто сравнивали с «басманным правосудием» (ироничное описание российских судов, которым пользуются журналисты после дела ЮКОСа — по названию Басманного районного суда, где рассматривалось дело), что поминать Кафку по поводу любого российского политического процесса стало печальной тривиальностью.
Но всегда ли писатели и журналисты так пессимистично относились к судопроизводству? Я решил выбрать самые яркие книги на тему судебных процессов и изучить, какими в них показывают судей.
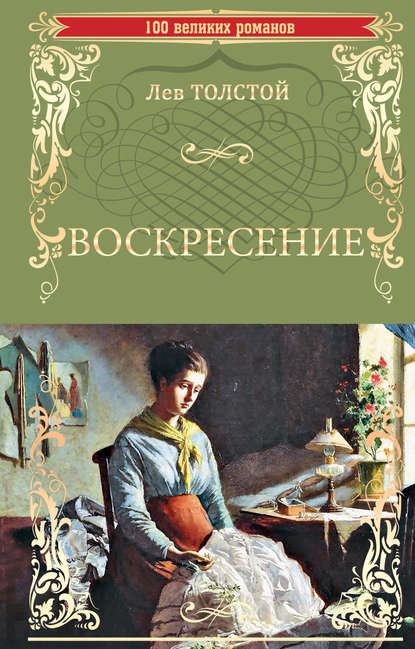
Последний роман Толстого чаще всего вспоминают благодаря знаменитой сцене богослужения, в которой писатель изображает таинство евхаристии, то есть освящения хлеба и вина, в виде действий, которые брезгливый священник совершает механически и в которых нет ничего святого. Во многом из-за этой сцены Толстой навлек на себя гнев официальной церкви - за иронически-язвительное отношение к священникам и острую критику церковно-государственных институтов его предали анафеме.
В «Воскресении» от Льва Николаевича, известного поборника гуманизма, досталось всем. Суд здесь изображен странным ритуальным действом, почти театрализованным, которое не служит делу справедливости, но превращает его в фарс. Из-за ошибки утомленных присяжных заседателей, создавших казус в юридических документах, суд отправил на каторгу ни в чем не повинную Катерину Маслову.
Глуховский, как и Толстой в свое время, систематически критикует установившийся в стране режим власти. Еще в сборнике «Рассказы о родине» Глуховский высмеивает коррумпированных чиновников. Так что выход в 2017 году реалистического романа «Текст», – удивившего критиков тем, что, дескать, писатель-фантаст вдруг «взялся за ум», – можно назвать вполне закономерным.
Студенту филфака Илье Горюнову в клубе подбрасывают наркотики. Осужденный по «народной» 228-й статье («хранение наркотических средств»), Горюнов попадает в колонию на восемь лет, а сфабриковавший дело следователь идет на повышение. Вернувшись после истечения срока в родную Лобню, Илья обнаруживает, что его мать скончалась от инфаркта, друзей не осталось, девушка бросила, и единственное, что он может сделать, – отомстить подбросившему ему кокаин следователю Петру Хазину. После гибели Хазина в руки Горюнова попадает смартфон следователя – и вся его жизнь.
Завязка «Текста» пугающим образом воспроизводит вопиющее дело Ивана Голунова: даже имена героев практически совпадают. Но никаким предсказателем Глуховский себя не считает: когда по данным «Коммерсанта» более четверти всех заключенных российских тюрем сидят за наркотики, а более 80 % дел по наркотической статье заведены только за хранение и основываются исключительно на показаниях подконтрольных полиции свидетелей, совпадений не избежать.
Глуховский попросту воспроизводит действующий паттерн поведения правоохранительной системы, поощряющей фабрикацию дел ради статистики и карьерных амбиций силовиков. В этом механизме суд становится лишь проводником незаконных решений.
 В отличие от героев Толстого и Глуховского, персонажей повести Андреева осуждают вроде бы за дело: пятеро молодых террористов задержаны с поличным у дома чиновника, которого они намеревались убить. Эстонского батрака приговаривают за убийство, а бандита суд карает по совокупности разбойных нападений. Всех их ждет казнь. При этом не сказать чтобы судьи испытывали муки совести, фактически отправляя людей на смерть: им интересно послушать, как виртуозно умеет свистеть подсудимый, или почаевничать с другими участниками процесса. Суд – рутинная работа, в которой даже отправить человека на смерть – повседневность; собственно, к грядущей встрече со смертью суд героев и готовит. Суд у Андреева – будто Харон, который везет новых Орфеев по Стиксу и оставит их лицом к лицу с неминуемой участью, и в этой точке, в точке одиночества перед разверзающейся бездной, каждый ответит сам себе на вопрос: «кто я?»
В отличие от героев Толстого и Глуховского, персонажей повести Андреева осуждают вроде бы за дело: пятеро молодых террористов задержаны с поличным у дома чиновника, которого они намеревались убить. Эстонского батрака приговаривают за убийство, а бандита суд карает по совокупности разбойных нападений. Всех их ждет казнь. При этом не сказать чтобы судьи испытывали муки совести, фактически отправляя людей на смерть: им интересно послушать, как виртуозно умеет свистеть подсудимый, или почаевничать с другими участниками процесса. Суд – рутинная работа, в которой даже отправить человека на смерть – повседневность; собственно, к грядущей встрече со смертью суд героев и готовит. Суд у Андреева – будто Харон, который везет новых Орфеев по Стиксу и оставит их лицом к лицу с неминуемой участью, и в этой точке, в точке одиночества перед разверзающейся бездной, каждый ответит сам себе на вопрос: «кто я?»
Столкновение с Роком выдает в одном героя, в другом – удалого героя-бунтаря, в третьем – смиренного богомольца. Неудивительно, в общем, что в едва не убитом чиновнике перспектива умереть вызывает беспокойство за собственные привилегии:

Книга главы юротдела некоммерческой организации «Русь сидящая» Алексея Федярова – нон-фикшн, в котором доступным образом излагается структура самых громких и самых «проблемных» дел в современном российском судопроизводстве.
На актуальных примерах – от дела Голунова до «Седьмой студии» – Федяров объясняет, как устроена фабрикация уголовных дел и доказательств, почему предпринимателям так трудно избежать уголовной ответственности, если они работают по госконтрактам, а судьям выгодно выносить обвинительные приговоры. Ключевая проблема, по мнению автора, – легализм.

Как и Йозефа К. в титульном романе Кафки, Цинцинната Ц. в мире антиутопии приговаривают к смертной казни. Но в отличие от собрата по несчастью, Цинциннат получает довольно смутное, хотя и конкретное обвинение: в «гносеологической гнусности», то есть в «непрозрачности», непохожести на других. Картины суда над Цинциннатом и тюремного заключения являют собой полный абсурд: жена подсудимого привозит с собой на свидание в тюрьму детей, любовника и даже всю мебель из дома; сосед по камере оказывается назойливым палачом с симптомами нарциссизма; дочка директора тюрьмы соблазняет заключенного на побег, который оказывается не слишком остроумным розыгрышем. А адвокат Цинцинната вместе с самим директором тюрьмы ведут застольные беседы, из которых понятно, что Цинциннату надеяться на снисхождение не приходится.
Мир набоковского правосудия не менее страшен, чем у Кафки, но в отличие от Йозефа К. Цинциннат постепенно находит выход: ему нужно сбросить оковы гротескного мира и найти душевные силы выйти за его пределы, чтобы казнь превратилась не более чем в театральное действо, которое не имеет никакого значения. Подлинная свобода лежит за пределами навязывающих абсурдные правила игры институций.
Концовка романа открытая: мы не знаем, видит ли Цинциннат предсмертные галлюцинации или обнаружил другое измерение, где обрел окончательный покой, но посыл Набокова ясен: чтобы не делать себя рабом нечестных законов, достаточно обнаружить их бессмысленность и необоснованность – и действовать сообразно справедливости.
Фуко — один из крупнейших философов XX века, культуролог и постструктуралист, посвятивший свои труды изучению положения власти и субъекта в обществе, статусу тела и безумию как социальному конструкту. Во многом интересы Фуко связаны с тем, что он был вынужден скрывать свою гомосексуальность.
«Надзирать и наказывать» — один из ключевых трудов Фуко, в котором философ, используя широкий круг исторических источников, анализирует эволюцию уголовного судопроизводства и его целей и задач. Если в Средневековье основной целью власти было покарать преступника и продемонстрировать народу с помощью изощренных пыток и зверских казней способность монарха насаждать свою волю, то в век Просвещения задачи изменились — теперь суды должны были не карать преступника, а разоблачить истоки его преступления, вписать поведение правонарушителя в понятную категорию девиаций, из которой было бы понятно, почему человека нужно изолировать от общества. То есть власть по-прежнему сама устанавливает границы преступления и придает своему контролю благообразный облик заботы о преступнике и обществе, но сама суть превенции не меняется.
В общем, Фуко весьма едок по отношению к современным правоохранительным системам, но российского читателя ждет особый сюрприз — достаточно нескольких цитат из истории средневекового правосудия, чтобы удивиться сходствам.
Как тут не вспомнить дела против протестующих и против комментаторов в соцсетях?
Но Фуко с его подробным анализом государства как политического тела и как здания-паноптикума (особого сооружения, из центра которого можно равным образом обозревать все помещения) оказывается актуален не только как критик карательного судопроизводства, но и как человек, предсказавший появление всеведующих государств и цифровых корпораций, которым известен каждый наш запрос в поисковике.

Решетун на момент публикации книги уже семнадцать лет работал судмедэкспертом, семь из которых рассказывал увлекательные истории о вскрытиях, травмах и смертях в своем блоге в ЖЖ. Эти записи в результате превратились в небанальный нон-фикшн о том, как цепочка незначительных, на первый взгляд, жизненных выборов подчас оказывается фатальной, причем в тот самый момент, когда человек этого ждет меньше всего. «Внезапно смертен», угу. Да, внезапно, но все еще закономерно.
Да, напрямую темы правосудия Решетун не касается, но, как и Набоков, он приходит к главному выводу: каждый сам выбирает меру своей свободы, которая зависит в том числе от наших повседневных выборов, и лишь от воли человека зависит, какими будут эти выборы.
И именно от нашего выбора зависит, стоит ли бороться за свою свободу – или покориться слепой Фемиде.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Новости о судебных процессах разного рода мелькают в лентах информагентств даже чаще, чем коронавирус. На днях к 23 годам лишения свободы за изнасилования приговорили голливудского продюсера Харви Вайнштейна, об опыте работы с которым актриса Роуз Макгоуэн написала пронзительную книгу «Смелая». Тем временем Стивен Кинг осудил решение издательства Hachette отозвать из публикации мемуары Вуди Аллена.
Аллен – еще один «звездный» голливудский босс, которого обвиняют в сексуальном насилии (приемная дочь режиссера Дилан Фэрроу заявляла, что Аллен растлил ее, когда ей было семь лет). Уголовный суд признал режиссера невиновным, но обвинения возобновились в 2018 году на волне подъема движения #metoo. Крупные компании стали разрывать контракты с Алленом, среди них была и Amazon Studios, против которой режиссер подал иск на 68 миллионов долларов компенсации ущерба. Суд тянется до сих пор.
Но как бы стороны этих конфликтов ни обменивались пикировками, сходятся они в одном: американским судьям доверяют все, хотя и критикуют их решения с юридических позиций. Презюмируется, что судьи выносят решения, руководствуясь буквой, духом закона и собственным экспертным суждением. А как обстоит дело с правосудием в России?
По данным статистики Судебного департамента Верховного суда РФ, с уголовным судопроизводством ежегодно сталкиваются около одного миллиона россиян, при этом оправдательный приговор выносится лишь по 0,2 % дел, а иски государственных органов против граждан суды удовлетворяют фактически в автоматическом режиме: властям отказывают лишь в 5 % случаев.
При этом судебные процессы как значимый ритуал политической и социальной жизни не раз попадали в поле зрения литераторов, и самым известным произведением на эту тему остается «Процесс» Кафки. Злоключения Йозефа К. настолько часто сравнивали с «басманным правосудием» (ироничное описание российских судов, которым пользуются журналисты после дела ЮКОСа — по названию Басманного районного суда, где рассматривалось дело), что поминать Кафку по поводу любого российского политического процесса стало печальной тривиальностью.
Но всегда ли писатели и журналисты так пессимистично относились к судопроизводству? Я решил выбрать самые яркие книги на тему судебных процессов и изучить, какими в них показывают судей.
Лев Толстой, «Воскресение»
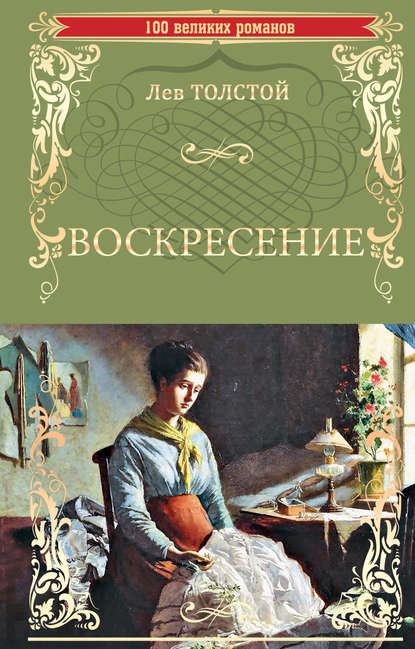
Последний роман Толстого чаще всего вспоминают благодаря знаменитой сцене богослужения, в которой писатель изображает таинство евхаристии, то есть освящения хлеба и вина, в виде действий, которые брезгливый священник совершает механически и в которых нет ничего святого. Во многом из-за этой сцены Толстой навлек на себя гнев официальной церкви - за иронически-язвительное отношение к священникам и острую критику церковно-государственных институтов его предали анафеме.
В «Воскресении» от Льва Николаевича, известного поборника гуманизма, досталось всем. Суд здесь изображен странным ритуальным действом, почти театрализованным, которое не служит делу справедливости, но превращает его в фарс. Из-за ошибки утомленных присяжных заседателей, создавших казус в юридических документах, суд отправил на каторгу ни в чем не повинную Катерину Маслову.
«Рабле пишет, что юрист, к которому пришли судиться, после указания на всевозможные законы, по прочтении двадцати страниц юридической бессмысленной латыни, предложил судящимся кинуть кости: чет или нечет. Если чет, то прав истец, если нечет, то прав ответчик. То, а не другое решение принято было не потому, что все согласились, а, <…> главное, потому, что все устали и всем хотелось скорей освободиться и потому согласиться с тем решением, при котором все скорей кончается».Уже в конце XIX века Толстой предупреждал об опасности конвейерного правосудия, но его никто не послушал. Хотя роман звучит актуально не только благодаря критике государственных институтов: Катя Маслова оказывается жертвой систематического насилия со стороны облеченных властью мужчин, которых она встречает, и этот опыт глубоко ее травмирует. Привилегии как источник травмы: проблема, далеко не исчерпанная и в 2020 году.
Дмитрий Глуховский, «Текст»
Глуховский, как и Толстой в свое время, систематически критикует установившийся в стране режим власти. Еще в сборнике «Рассказы о родине» Глуховский высмеивает коррумпированных чиновников. Так что выход в 2017 году реалистического романа «Текст», – удивившего критиков тем, что, дескать, писатель-фантаст вдруг «взялся за ум», – можно назвать вполне закономерным.
Студенту филфака Илье Горюнову в клубе подбрасывают наркотики. Осужденный по «народной» 228-й статье («хранение наркотических средств»), Горюнов попадает в колонию на восемь лет, а сфабриковавший дело следователь идет на повышение. Вернувшись после истечения срока в родную Лобню, Илья обнаруживает, что его мать скончалась от инфаркта, друзей не осталось, девушка бросила, и единственное, что он может сделать, – отомстить подбросившему ему кокаин следователю Петру Хазину. После гибели Хазина в руки Горюнова попадает смартфон следователя – и вся его жизнь.
Завязка «Текста» пугающим образом воспроизводит вопиющее дело Ивана Голунова: даже имена героев практически совпадают. Но никаким предсказателем Глуховский себя не считает: когда по данным «Коммерсанта» более четверти всех заключенных российских тюрем сидят за наркотики, а более 80 % дел по наркотической статье заведены только за хранение и основываются исключительно на показаниях подконтрольных полиции свидетелей, совпадений не избежать.
Глуховский попросту воспроизводит действующий паттерн поведения правоохранительной системы, поощряющей фабрикацию дел ради статистики и карьерных амбиций силовиков. В этом механизме суд становится лишь проводником незаконных решений.
«Судья человек безмозглый и бессердечный, ей когда мантию выдают, грудину полой делают. Суд так устроен, что оправдать никого нельзя: за оправдание оправдываться придется. Если до суда дошло – точно приговорят. У судей глаза искусственные, им живыми глазами на обвиняемых глядеть противопоказано. Вся защита у обвиняемого – от следователя. Если до суда дело не развалить, хана. А от судей защиты нет, так что и мстить им без смысла. Это Илья теперь знал: в колонии научили».То есть судебная Фемида, повязка на глазах которой по идее должна символизировать беспристрастность, на поверку оказывается слепа к корневым изъянам системы. Так что ключевое решение – спасать себя или наследие Хазина, поступить по совести или в своих интересах – Илье приходится принимать, основываясь на собственных представлениях о справедливости.
Леонид Андреев, «Рассказ о семи повешенных»

Столкновение с Роком выдает в одном героя, в другом – удалого героя-бунтаря, в третьем – смиренного богомольца. Неудивительно, в общем, что в едва не убитом чиновнике перспектива умереть вызывает беспокойство за собственные привилегии:
«Точно оголила его смерть, которую готовили для него люди, оторвала от пышности и внушительного великолепия, которые его окружали, – и трудно было поверить, что это у него так много власти, что это его тело, такое обыкновенное, простое человеческое тело, должно было погибнуть страшно, в огне и грохоте чудовищного взрыва. Не одеваясь и не чувствуя холода, он сел в первое попавшееся кресло, подпер рукою взлохмаченную бороду и сосредоточенно, в глубокой и спокойной задумчивости, уставился глазами в лепной незнакомый потолок».
На фоне внезапно вернувшегося интереса общества к проблеме смертной казни актуальным кажется вопрос Андреева: имеет ли право общество причинять смерть преступнику и способны ли мы на прощение?
Алексей Федяров, «Невиновные под следствием: инструкция по защите своих прав»

Книга главы юротдела некоммерческой организации «Русь сидящая» Алексея Федярова – нон-фикшн, в котором доступным образом излагается структура самых громких и самых «проблемных» дел в современном российском судопроизводстве.
На актуальных примерах – от дела Голунова до «Седьмой студии» – Федяров объясняет, как устроена фабрикация уголовных дел и доказательств, почему предпринимателям так трудно избежать уголовной ответственности, если они работают по госконтрактам, а судьям выгодно выносить обвинительные приговоры. Ключевая проблема, по мнению автора, – легализм.
«Правовые институты, необходимые как атрибут цивилизованного государства, функционируют и генерируют внешние признаки правосудия. Это касается и государственных институций, от формально независимого судьи до омбудсмена, и правового инструментария. Но этот инструментарий декоративен, его задача – в придании видимости соблюдения правовых гарантий».К книге прилагаются практические советы для тех, кто столкнулся с системой российского правосудия. Федяров доступно объясняет, что делать, если вас задерживают; как обжаловать действия дознавателя и следователя; почему не стоит заключать досудебное соглашение. Это полезная инструкция, которая в контексте книги выглядит иллюстрацией того, как неплохие, в общем-то, законы превращаются в орудие подавления прав и свобод.
Владимир Набоков, «Приглашение на казнь»
Как и Йозефа К. в титульном романе Кафки, Цинцинната Ц. в мире антиутопии приговаривают к смертной казни. Но в отличие от собрата по несчастью, Цинциннат получает довольно смутное, хотя и конкретное обвинение: в «гносеологической гнусности», то есть в «непрозрачности», непохожести на других. Картины суда над Цинциннатом и тюремного заключения являют собой полный абсурд: жена подсудимого привозит с собой на свидание в тюрьму детей, любовника и даже всю мебель из дома; сосед по камере оказывается назойливым палачом с симптомами нарциссизма; дочка директора тюрьмы соблазняет заключенного на побег, который оказывается не слишком остроумным розыгрышем. А адвокат Цинцинната вместе с самим директором тюрьмы ведут застольные беседы, из которых понятно, что Цинциннату надеяться на снисхождение не приходится.
Концовка романа открытая: мы не знаем, видит ли Цинциннат предсмертные галлюцинации или обнаружил другое измерение, где обрел окончательный покой, но посыл Набокова ясен: чтобы не делать себя рабом нечестных законов, достаточно обнаружить их бессмысленность и необоснованность – и действовать сообразно справедливости.
Мишель Фуко, «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы»
Фуко — один из крупнейших философов XX века, культуролог и постструктуралист, посвятивший свои труды изучению положения власти и субъекта в обществе, статусу тела и безумию как социальному конструкту. Во многом интересы Фуко связаны с тем, что он был вынужден скрывать свою гомосексуальность.
«Надзирать и наказывать» — один из ключевых трудов Фуко, в котором философ, используя широкий круг исторических источников, анализирует эволюцию уголовного судопроизводства и его целей и задач. Если в Средневековье основной целью власти было покарать преступника и продемонстрировать народу с помощью изощренных пыток и зверских казней способность монарха насаждать свою волю, то в век Просвещения задачи изменились — теперь суды должны были не карать преступника, а разоблачить истоки его преступления, вписать поведение правонарушителя в понятную категорию девиаций, из которой было бы понятно, почему человека нужно изолировать от общества. То есть власть по-прежнему сама устанавливает границы преступления и придает своему контролю благообразный облик заботы о преступнике и обществе, но сама суть превенции не меняется.
В общем, Фуко весьма едок по отношению к современным правоохранительным системам, но российского читателя ждет особый сюрприз — достаточно нескольких цитат из истории средневекового правосудия, чтобы удивиться сходствам.
«Публичная казнь исполняет юридическо-политическую функцию. Она – церемониал, посредством которого восстанавливается на миг нарушенная власть суверена. Восстанавливается путем проявления ее во всем ее блеске. Публичная казнь, сколь бы поспешной и повседневной она ни была, относится к целому ряду пышных ритуалов, восстанавливающих власть после ее временного упадка (таких, как коронация, въезд монарха в покоренный город, усмирение взбунтовавшихся подданных); вслед за преступлением, унизившим суверена, казнь развертывает перед всеми его непобедимую мощь. Ее цель – не столько восстановить равновесие, сколько ввести в игру как ее кульминационный момент асимметрию между подданным, осмелившимся нарушить закон, и всемогущим государем, демонстрирующим свою силу. Хотя возмещение вреда, причиненного правонарушением частному лицу, должно быть пропорциональным, хотя приговор должен быть справедливым, исполнение приговора осуществляется таким образом, чтобы продемонстрировать не меру, а отсутствие равновесия и чрезмерность».
Как тут не вспомнить дела против протестующих и против комментаторов в соцсетях?
Но Фуко с его подробным анализом государства как политического тела и как здания-паноптикума (особого сооружения, из центра которого можно равным образом обозревать все помещения) оказывается актуален не только как критик карательного судопроизводства, но и как человек, предсказавший появление всеведующих государств и цифровых корпораций, которым известен каждый наш запрос в поисковике.
Алексей Решетун, «Вскрытие покажет: записки увлеченного судмедэксперта»
Решетун на момент публикации книги уже семнадцать лет работал судмедэкспертом, семь из которых рассказывал увлекательные истории о вскрытиях, травмах и смертях в своем блоге в ЖЖ. Эти записи в результате превратились в небанальный нон-фикшн о том, как цепочка незначительных, на первый взгляд, жизненных выборов подчас оказывается фатальной, причем в тот самый момент, когда человек этого ждет меньше всего. «Внезапно смертен», угу. Да, внезапно, но все еще закономерно.
«Мгновенной смерти не бывает. Это только в фильмах показывают, как человек хватается за сердце и тут же падает замертво. На самом деле и скоропостижная, и внезапная смерть предваряется более или менее продолжительным периодом патологических изменений в организме, которые и запускают разрушительный процесс».Технический прогресс, вредные привычки, саморазрушение, навязчивые идеи и вечная гонка за впечатлениями – человек придумал множество средств сократить себе жизнь, и единственный приговор, который решается вынести автор: не стоит класть свое здоровье на алтарь предрассудков.
Да, напрямую темы правосудия Решетун не касается, но, как и Набоков, он приходит к главному выводу: каждый сам выбирает меру своей свободы, которая зависит в том числе от наших повседневных выборов, и лишь от воли человека зависит, какими будут эти выборы.
И именно от нашего выбора зависит, стоит ли бороться за свою свободу – или покориться слепой Фемиде.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Другие материалы по теме «Авторская колонка»
О проекте
О подписке
