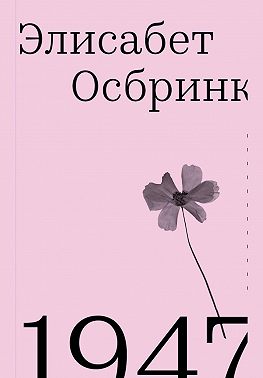Согласитесь, эпиграф из П. Целана есть нечто настолько многообещающее и интерпретативное, что после него хочется читать книгу, даже если еще не представляешь, о чем она будет. А оказалась она панорамным историческим полотном, сотканным из помесячных микрозаписей того, что происходило в 1947 году в разных точках мира. Пиксель за пикселем автор складывала эту картину, напоминающую стиль Билла Брайсона или Флориана Иллиеса (но литературнее и шире первого и сложнее и глубже второго), вкладывая в нее разную информацию, впечатления, отношения к происходящему в тот период времени. Все они даны в авторской оптике, представленной от имени разных людей из разных географических точек.
Чего-то очень уж совсем нового в этой фактологии одного года в истории, наверное, я не нашла, но сама форма мне нравилась: читать было любопытно именно из-за этой оскольчатости, мозаичности. Получалось вполне интерактивно, и само чтение напоминало конструирование с пятьюдесятью оттенками разнообразных пониманий, оценок и ностальгий (и неностальгий – тоже). Вполне закономерно, что много внимания было уделено семейной истории Осбринков, но я, не будучи сильно внутри еврейской темы, больше любопытствовала в отношении ежеднневного «творения истории» другими людьми: восстановление Европы (и городов, и социумов, и культуры, и психики людей) после военной стагнации, осознание геноцида, независимость колоний, эмансипация женщин, принципиально иные импульсы к развитию искусства и музыки, осознание необходимости утверждения прав человека, и – главное - формирование новых смысложизненных ориентиров, контур новых перспектив развития человечества как такового.
Мне показалось, что 600 электронных страниц для масштаба авторского замысла было мало, поэтому налет пунктирности мне тоже мешал, а текстовая ограниченность конкретных эпизодов слегка фрустрировала (как-то все время хотелось больше деталей и чувственной ткани этого бесконечно огромного смыслового пазла). Тем не менее, даже несмотря на некую тягостную мрачность атмосферы повествования и заметное избегание эмоций во имя фактов, сам пафос начала новой эпохи в истории я почувствовала – вот тот самый «ветер перемен», подувший на человечество. Из сегодняшнего 2025-го смотреть на историю 1947-го интересно (кажется, Л.Пастернак сказал: «Однажды Гегель ненароком / И, вероятно, наугад / Назвал историка пророком, / Предсказывающим назад») за счет возможности увидеть последствия принятых и непринятых решений, выстраивать новые причинно-следственные связи, понимать влияние одних событий на другие, усматривать долгодействующие исторические параллели и т.д. (вот когда пожалеешь об отсутствии исторического образования!).
Э. Осбринк в одном из интервью сказала, что писала документальное произведение художественным образом, потому что этот способ лучше всего отвечал ее собственному чувствованию того времени, и я прониклась ее версией «автобиографии года» - так и есть, лучше не скажешь!