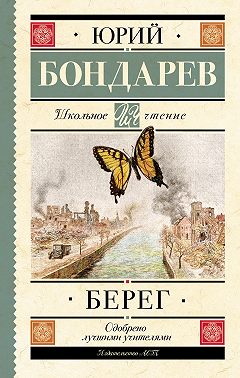«Берег» — знаменитый роман, созданный писателем-фронтовиком Юрием Васильевичем Бондаревым в первой половине 1970-х годов. В этом произведении, где чувствуется рука уже зрелого мастера и тонкого психолога, повествование ведётся в трёх временны́х плоскостях. Прежде всего, это современный рассказчику 1971 год, где мы встречаем его героя Вадима Никитина как известного в Советском Союзе и Европе писателя, приехавшего в западную Германию по приглашению некой фрау Герберт из литературно-дискуссионного клуба. Также рассказ о настоящем Никитина перемежается ретроспективными главами, относящимися к 1945 году, когда его, 20-летнего лейтенанта, прошедшего огонь и воду, во многом ещё неискушённого и наивного, вместе со своим взводом на несколько дней занесло в дачный городок Кёнигсдорф под Берлином в конце войны, а также эпизодами из 50-х, повествующими о начале его творческого пути в качестве профессионального писателя, переживающего окрыляющую радость первых публикаций.
Военные главы погружают нас в атмосферу курортного городка Кёнигсдорфа в цветущем мае 45-го, где в одном из домов расположился взвод лейтенанта Никитина. Так же атмосферно воссоздан Бондаревым антураж Гамбурга 70-х: с одной стороны — тихий осенний дождь, окутавший заснувший ночной город; полупустой, освещённый приглушёнными бра ресторан; коньяк и кофе; он и она, неумело скрывающие за наигранной весёлостью разверзшуюся от неожиданной искренности бездну грусти и тоски, уносящей жизнь одного из героев. Но тут же перед нами предстаёт город греха, погрязший в однополой любви, шлюхах и порно-кинотеатрах. Для описания всего этого мастеру хватило нескольких штрихов, оставляющих мерзкое ощущение царящей здесь липкой грязи и тошнотворного мрака.
А тогда, в победные майские дни, перепуганные жители, натянуто улыбаясь, подобострастно раскланивались перед советскими солдатами, опьянёнными скорым завершением своего долгого воинского пути. Однако чувство миновавшей с падением Берлина опасности оказалось для них фатально обманчивым, убаюкивающим ложной тишиной и спокойствием небольшого немецкого городка. Как заметил оглянувшийся на свою молодость Никитин, погибал именно тот, кто отчаянно боялся умереть за несколько дней до конца войны, что оборачивалось ещё бо́льшими напрасными жертвами. «Это уж какая-то страшная была закономерность», — вздыхает он.
На внезапные, застигнувшие солдат врасплох бои накладываются личные драмы героев романа: обострение отношений между лейтенантом Княжко и комбатом Гранатуровым из-за санинструктора Галины — и новый виток конфликта между сержантом Межениным и лейтенантом Никитиным, спровоцированный внезапно вспыхнувшей страстью, настоящим любовным безумием последнего (именно так — «Безумие» — называется вторая часть новеллы) к юной хозяйке дома Эмме, решившейся остаться в своём переполненном советскими солдатами жилище. Именно в ней сходятся воедино все протяжённые во времени сюжетные нити: в победном мае 1945-го — в образе 18-летней немецкой девушки Эммы, полюбившей молодого русского офицера, а затем зрелой женщины фрау Герберт, 26 лет спустя узнавшей его в советском писателе, книги которого продавались в её книжном магазинчике, и пригласившей его в гамбургский литературный клуб.
История их знакомства отсылает к немецким легендам, в которых отважный рыцарь спасает прекрасную принцессу, заточённую в высокой башне, охраняемой ужасным драконом. На новый лад сказка воплотилась в сюжет о том, как доблестный советский офицер ворвался в мансарду, где перепуганную немецкую девушку намеревался изнасиловать «дракон» Меженин. Воскрешая в памяти свой скоротечный роман десятилетия спустя, они словно возвращаются к берегу давно прошедшей, опалённой войной молодости, к призрачно-мимолётному счастью, где будто бы остановилась жизнь Эммы, прождавшей четверть века в несбыточных надеждах, не понимая, что они уже совсем другие люди, прожившие такие разные жизни. Им уже не войти в эту реку безжалостного времени дважды, остаётся лишь бросить угадывающий взгляд на её изменившиеся берега...
Не сказать, что экранизация романа, которую в 1983 году в сотрудничестве с ФРГ сняли режиссёры Александр Алов и Владимир Наумов, произвела на меня столь же сильное впечатление, как литературный первоисточник. Но следует признать, что выбор исполнителей главных ролей в лице народного артиста России Бориса Щербакова и народной артистки РСФСР Наталии Белохвостиковой безупречен. Примерно такими я и представлял себе Вадима и Эмму во время чтения книги. К тому же Борис Васильевич Щербаков, получивший в 1985 году за эту роль Государственную премию СССР, неуловимо напоминает здесь самого Юрия Васильевича Бондарева, лично адаптировавшего свой роман для телеэкранов в качестве сценариста.
И уже без боли, прощаясь с самим собой, он медленно плыл на пропитанном запахом сена пароме в тёплой полуденной воде, плыл, приближался и никак не мог приблизиться к тому берегу, зелёному, обетованному, солнечному, который обещал ему всю жизнь впереди.
Отзыв на другие произведения Юрия Бондарева: https://www.livelib.ru/review/5065585-goryachij-sneg-batalony-prosyat-ognya-yurij-bondarev#comments