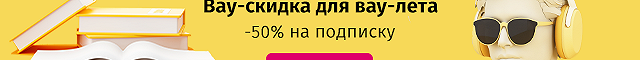
Они толкнули приоткрытую дверь, прошли по коридору, в конце которого через стеклянную дверь открывался вид на небольшой, но пышный сад. Знакомые вещи хозяина – его трость, шляпа, пальто – внезапно приобрели заброшенный и бесконечно печальный вид, вид навалившейся усталости и катастрофы.
Справа было две двери, слева – дверь и лестница, которая вела в небольшой закуток, где стояла лишь вешалка для одежды. Втайне надеясь, что Додена там нет, Маго осторожно толкнул дверь справа, которая предательски скрипнула. Сейчас ему было страшно, мучительно страшно встретиться лицом к лицу с человеком, чья жизнь в одночасье перевернулась.
Доден расхаживал взад и вперед по своей библиотеке, заложив руки за спину, торжественный в своем черном сюртуке и таком же черном атласном галстуке, повязанном вокруг шеи. На его привлекательном, гладко выбритом серьезном лице, обрамленном белоснежными бакенбардами, читалось, насколько непросто ему было сохранять спокойствие. Бобуа вздохнул с облегчением при первых мгновениях встречи. Весь его утонченный облик, преисполненный тонкой и умной чувствительности, был омрачен сдержанным, но бесконечным страданием. Верхняя губа, полная, жадная, аристократическая, вздрагивала, борясь с подступающими рыданиями. В полумраке комнаты знаменитые меню, развешенные в рамках по стенам вперемешку с веселыми гравюрами, казались серыми пятнами. Редко проглядывающие проблески света играли на золотых переплетах старых книг.
Мэтр молча протянул руку своим друзьям, разделившим с ним так много великолепных трапез, и продолжил безмолвно мерить шагами библиотеку. Пока он ходил взад-вперед, его глаза блуждали по полкам, где с любовью хранились старые книги: великие классики остроумия и гастрономии. Наконец он сел за свой письменный стол, поставив локти поверх разбросанных бумаг, уперевшись в ладони подбородком и остановившись взглядом на избранной полке. Взгляды трех друзей устремились вслед за взглядом хозяина. Они стояли там, в своих зеленых и розовых бумажных обложках, в переплетах из тисненой бумаги или телячьей шкуры, самые известные и драгоценные книги: «Ужины при дворе», «Буржуазная кухня», «Физиология вкуса», «Альманах гурманов», «Повар императора», «Энциклопедия знаменитых рецептов» и многие-многие другие, готовые сохранить традиции Франции для будущих веков. Почти каждый день на протяжении их многолетнего сотрудничества с Доденом-Буффаном Эжени Шатань изучала одну за другой страницы этих великолепных летописей непризнанного искусства, искусства создания непостижимого синтеза жизнерадостности, утонченности, галантности и восхитительной беззаботности, столь присущих галло-римской культуре.
В этот скорбный час Доден-Буффан рассматривал этот драгоценный уголок библиотеки, где он старательно складывал материалы для мимолетных и безупречных новых творений, создаваемых бок о бок с покойной.
Этот бывший председатель провинциального суда, выходец из старой и крепкой семьи, который наряду с философией спокойного отношения к жизни и скептической снисходительностью в суждениях о людях унаследовал атавистический вкус к эпикурейству, сегодня чувствовал себя пораженным в самое сердце из-за преждевременной кончины своей единомышленницы, чей талант так тонко сочетался с его гением. Можно ли не отдать дань уважения качествам, которые он поставил на службу кулинарному искусству после того, как тридцать лет жизни положил на алтарь правосудия? Да, гений, удивительное сочетание как в своем проявлении, так и в единении традиций и смелости, упорства и фантазии, обычаев и инноваций! Гений, его потрясающая способность к творчеству, заключенная в рамки продуманных и неосязаемых принципов, его чувство гармонии, его проникновенное понимание характера, потребностей, обстоятельств и неизбежностей. Гений, его поразительные открытия воображения!
Именно эти природные проявления способствовали появлению суждений, основанных на глубоких юридических смыслах и тонком человеческом сострадании, которые превратились впоследствии в юриспруденцию, а также рождению гастрономических шедевров, отличавшихся дерзостью и даривших неизменное счастье. Да, Доден-Буффан был одним из тех, кто осмелился соединить в одном блюде рыбу и птицу, чтобы по-настоящему насладиться вкусом каплуна, обильно замаринованного в соусе из креветок и тюрбо.
Его взгляд оторвался от книг на полке и остановился на Рабасе, Маго и Бобуа, присевших на диван в форме большой раковины и нервно перебиравших в руках свои шляпы.
– Пойдемте к ней, – вдруг произнес он.
Взволнованные, они прошли через прихожую и оказались в гостиной. Старинная мебель из орехового массива с обивкой из ткани в желто-голубую полоску была расставлена по углам и отодвинута в тень, ближе к стенам. В глубине уединенной комнаты только отблеск траурно мерцающих свечей падал неопределенно-желтым пятном на фигуру почившей бедняжки, которая казалась вновь юной и почти улыбающейся в сиянии небытия, придававшего восковой оттенок этой маске усталого пятидесятилетнего ребенка. На этом лице, обрамленном кружевным чепчиком и прядками каштановых волос, читалось несомненное благородство и утонченность, полная дружелюбия. В нем виделось глубокое знание бренной жизни и несомненное стремление к уюту. Это было лицо человека, при встрече с которым под сенью дома любой мог почувствовать себя желанным гостем.
На столе возле тела среди самшита и святой воды Доден разложил то, что осталось этому миру из шедевров почившей бедняжки: ее триумфальное меню, написанное каллиграфическим почерком на бристольском картоне. Соседка молилась. Огромная муха невыносимо жужжала в комнате, постоянно ударяясь о стены, оконные стекла и бумажные абажуры, и никто не осмеливался прервать эту горестную сарабанду.
– Рабас, – сказал Доден, тихо обращаясь к доктору после продолжительного раздумья перед телом, – предупредите распорядителя, что я хочу произнести речь на кладбище.
Доден-Буффан действительно говорил на краю могилы. Весь маленький городок стал свидетелем его скорбной боли. Он посчитал, что воспевание покойной будет сродни выступлению в защиту искусства, которое она почитала больше всего на свете, возможностью изложить его основные принципы, раскрыть его философию и в глазах простого обывателя вернуть кухне то достойное место, которое она заслуживала по праву. И там, на этом тихом провинциальном кладбище, окруженном цветами, тенью и близлежащими ручьями, среди скромных могил неизвестных земляков он произнес речь более пламенную, чем на торжественных заседаниях, которые под эгидой закона открывал с высоты своего председательствующего места:
«Дамы и господа,
Похороны Эжени Шатань по моему страстному желанию должны стать апофеозом невыразимого горя. Сегодня я не только оплакиваю преданную соратницу, но и воздаю должное благородным усилиям всей ее жизни, которые многими несправедливо оспариваются. Я глубоко верю, дамы и господа, что гастрономия претендует на то, чтобы встать на одну ступень с наивысшими формами искусства, занять свое место среди творений человеческой культуры. Я утверждаю, что, если бы не какая-то немыслимая несправедливость, которая ошибочно лишает вкус способности порождать искусство, но безоговорочно признает эту способность за зрением и слухом, Эжени Шатань заняла бы по праву достойное место среди величайших художников и музыкантов.
Являются ли истинными сокровищами, драгоценными творениями блюда, представляющие собой тончайшее единение тонов, вкусов и оттенков, невероятное чувство меры и гармонии, совмещение противоположностей, наконец, гениальность в стремлении удовлетворить потребности нашего вкуса, или это есть исключительная прерогатива тех, кто смешивает краски и соединяет звуки? Вы скажете, что блюда на столе лишь мимолетные творения, что это шедевры без будущего, быстро погребенные в забвении времен!
Несомненно, эти шедевры более долговечные, чем произведения виртуозов и комедиантов, которые вы восхваляете. Разве гениальные творения Карема[2] или Вателя[3], потрясающие работы Гримо де Ла Реньера[4] или Брийя-Саварена[5] не живы среди вас? Многие полотна мастеров-однодневок исчезли из поля зрения людей, но до сих пор можно отведать сливочную заправку неизвестного повара де Субиза[6] или курицу победителей под Маренго[7]. Господа, я стыжу тех, кто утверждает, что человек ест только для того, чтобы прокормиться, за их пещерный примитивизм. Они с тем же успехом могли бы предпочесть Люлли или Бетховену вой зубра, а Ватто или Пуссену – грубые наброски доисторических существ. Наше чувственное восприятие многогранно и неразделимо. Тот, кто взращивает его, взращивает его целиком, и я утверждаю, что фальшивым художником является тот, кто не является гурмэ, и фальшивым гурмэ – тот, кто ничего не смыслит в красоте цвета или эмоциональности звука.
Искусство – это восприятие красоты через призму чувств, всех чувств человека, и я заявляю, что для понимания ревностной мечты да Винчи или проникновения во внутренний мир Баха нужно научиться обожать ароматную и неуловимую душу темпераментного вина.
Великую художницу, дамы и господа, мы оплакиваем сегодня. Эжени Шатань создавала произведения искусства, которые также имеют свои уникальные черты. Память о ней будет жить среди людей. Из ее трудов, которые она оставила после себя и которые я собрал, мои благочестивые руки и мое благородное сердце возведут ей памятник, который она заслуживает, – книгу, которая будет прочнее бронзы и которая сохранит для будущих потомков лучшее из ее гения.
И, дамы и господа, забыв о величайших кулинарных традициях, к которым причастна была и Эжени Шатань, Франция отреклась бы от одной из составляющих собственной истории, уничтожила бы один из прекраснейших венцов своей славы. Я нахожусь в том возрасте, когда люди любят апеллировать к древним книгам, но даже не беря в расчет свидетельства, которые могли оставить наши предки, я обращаюсь к зарубежным путешественникам прошлых веков. Я читаю в их письмах, читаю в их мемуарах, что, завершив свои странствия, они вместо дома возвращались во Францию, чтобы снова наполнить свои сердца ощущением ее могущества, свои глаза – сиянием ее небес, а свои ноздри – нежнейшими ароматами вкуснейших яств. Еще в шестнадцатом веке они писали о жаровнях и погребах как о неотъемлемой части чудесных замков и прелестных ландшафтов. Еще в семнадцатом веке они восхищались военной мощью армии Людовика XIV, совершенством гостиниц и гением наших кулинаров. В восемнадцатом веке бесчисленные путешественники, посещавшие Францию, в лирических песнях воспевали все гастрономические изыски ее провинций, а один из них даже написал, что испил саму душу Франции в «Кло дю Руа» в Вон-Романе и что в любой гостинице, где бы он ни останавливался, столы ломились от изумительно приготовленных блюд.
Дамы и господа, мое страждущее сердце не в состоянии передать все мои чувства перед этой могилой, которую вот-вот покроет земля. Я хотел бы выразить покойной свое почтение и восхищение. Одно из отражений гения этой страны сияло в тебе, Эжени Шатань. Ты высоко и гордо держала знамя искусства, у которого, как и у любого другого, есть свои великие мастера и мученики, свои вдохновения и сомнения, свои радости и поражения. Земля забирает сегодня одну из благороднейших женщин, которая по праву заняла свое место в первом ряду творцов искусства утонченного человеческого вкуса».
В тот вечер всех городских стряпух, многие из которых были небезызвестны, какая-то мечтательная сила притяжения вновь потянула к кухонным плитам. И некоторые из них вдруг увидели, как в тлеющих углях забрезжил наконец свет признания их искусства.
О проекте
О подписке