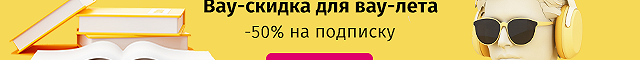
Четвертый апостол
Сформулировавший ряд незыблемых законов и разумных принципов, касающихся искусства приготовления и принятия пищи, Доден-Буффан среди прочего утверждал, что внешние обстоятельства, имеющие отношение к блюду, какими бы совершенными они ни были сами по себе, заслуживают тем не менее пристального внимания и утонченной бдительности.
– Леонардо да Винчи, выставленный на чердаке, или соната Бетховена, звучащая в бакалейной лавке, никогда не произвели бы на меня должного впечатления, – обычно говорил он. – Прекрасное требует обстановки, которая бы позволяла получать от него истинное удовольствие и помогала вытащить на свет все подлинные радости, скрытые в нем.
Вдохновленный именно этой идеей, Доден-Буффан обустроил свою столовую. Здесь идеально сочеталось все. Удобство, свет, температура, ткани и формы – все было подобрано так, чтобы жизнь воспринималась естественно и легко, чтобы она утратила тот привычный характер борьбы, который постоянно проявлялся во враждебности тех или иных предметов: то в тесноте кресла, не позволяющей телу принять удобное положение, то в копоти камина, затмевающей собой любые вкусовые ощущения, то в рисунках обоев, претящих взору.
Но что требовало особого внимания со стороны гастронома, так это круг его гостей. В этом он руководствовался исключительной непримиримостью, самой строгой сестрой беспощадности. Опыт привел его к тому, что к своему столу он допускал лишь избранные натуры, чья искренность была столь же высока, как и эрудированность, чья способность чувствовать была столь же развита, как и утонченность вкуса. На заре своей славы в порыве юношеского энтузиазма и гордости за возрождаемое искусство он принимал на своей кухне всех, кто претендовал на честь отведать ее блюда. Сколько недостойных людей, фальшивых гурманов и подлых льстецов кружило вокруг его дома! Он с трудом скрывал свои тревоги и огорчения, когда слышал восхищенные возгласы, восхваляющие блюда, которые он считал отвратительными, или, наоборот, когда сталкивался с неубедительным восторгом перед творениями, которые он считал совершенными и которые возносили все его существо до высот, недостижимых и непонятных другим посетителям. Он до предела исчерпал поток банальностей и претенциозной некомпетентности, и его суждения стали более критичными и требовательными: постепенно он ограничил число своих гостей.
Прежде чем открыть перед ними двери и впустить в свое уединенное святилище, он решил втайне подвергать их беспощадным испытаниям. И пока в библиотеке или столовой велись теоретические дискуссии на гастрономические темы, он безапелляционно выносил свой суровый приговор этим профанам и бездарным художникам, чья ересь, отсутствие вкуса или напускная утонченность навсегда лишали их возможности оказаться перед столом, дарующим незабываемое наслаждение.
Рантье Бобажа больше не приглашали после того, как тот принял за божоле несравненный шатонеф-дю-пап.
Архитектор Капада подвергся вечному остракизму за то, что не смог распознать в сливочном соусе для цветной капусты экзотическую нотку мускатного ореха.
Чиновник из Министерства финансов, заявивший, что не видит особой разницы между тем, как жарили говядину в Ниверне[10] и как делают это сейчас во Франш-Конте[11], тут же был исключен из списка посетителей.
Ригай, директор расположенного по соседству стекольного завода, в конце трапезы совершил сразу две ошибки, поставившие жирную точку в вопросе его изгнания: он опустошил стакан поммара[12] сразу после меренгового торта с кофейным кремом, а затем отказался от сыра с мраморными прожилками плесени, перед которым просто невозможно было устоять.
Других постигла та же участь за то, что они не заметили лишней щепотки соли, брошенной в пюре из артишоков, или за то, что они похвалили канапе с паштетом из куропатки, который не был доведен до нужной консистенции.
Неделя за неделей, месяц за месяцем на протяжении многих лет Доден-Буффан, таким образом, вселял страх и трепет и запрещал своим современникам, соотечественникам или путешественникам, знакомым или случайным прохожим и в целом всем жаждущим, приближаться к славе, которая начинала приобретать национальный характер, и пробовать блюда, все тонкости которых они не могли постичь, но перед чьим прельщением не могли устоять.
В отношении людей Доден проявлял суровую непримиримость. По окончании испытаний рядом с ним остались только трое избранных, которые победоносно обошли бесчисленных преследователей и которых он считал достойными того, чтобы всегда быть допущенными к его прославленному столу. Для всех, кроме них, двери его столовой остались закрытыми навсегда.
Художник, окруженный своими верными апостолами, больше не решался на новые эксперименты. Он считал, что прикоснуться к святому можно только в кругу небольшого числа гостей, объединенных одним идеалом и избавленных от предрассудков вежливости, приличий и дружелюбия, коих всегда требует присутствие посторонних.
Доден отметал любые просьбы. Состоятельные американцы, русские князья, английские лорды, приезжавшие в его город в тщетной надежде на приглашение, гости, принимавшие ванны на курортах соседнего департамента, впустую пытались использовать официальное влияние, личные связи, прямые и обходные пути. Они не получали ничего, кроме разочарования.
Прославленный гурмэ даже мотивировал свой отказ немецкому барону из дипломатических кругов, особенно настойчивому и умоляющему в сравнении с другими просителями, тем, что тот «принадлежал к стране, где даже не подозревают, что рот предназначен не только для того, чтобы отправлять туда еду».
Сам субпрефект, человек недюжинного роста, веселого нрава и отменных манер, тщетно прибегал к лести, обещаниям и угрозам: доступа в закрытый клуб он так и не получил. Доден передал ему холодный паштет из раков в знак вежливости и признательности за то, что лесник по просьбе субпрефекта указал на лучшие грибные места, где можно собрать отменных сморчков. Он даже соблаговолил составить меню для чиновника, когда тот должен был принимать у себя министра, находящегося в регионе по делам, чем внес существенный вклад в его продвижение по службе. Но он никогда, никогда не приглашал его за стол в святая святых.
На удивление, такая строгая закрытость и бескомпромиссное настроение не вызывали враждебности в адрес этого правителя стола, по крайней мере, со стороны местного населения. Прославившийся во всем белом свете гурмэ, который родился и прожил всю жизнь в этом городе, снискал для него славы, доселе неизвестной. И постепенно народ стал осознавать истинную природу своей никчемности в вопросах гастрономии перед лицом столь гениального художника.
Безо всякого расчета с его стороны слава Додена-Буффана выросла еще больше с его уходом на пенсию и с таинственностью, которая стала окружать его вдвойне. Он приобрел всеобщее глубокое уважение, смешанное почти с религиозным почитанием, которое, кстати, разделяли и трое его друзей, регулярно посещавших «богослужения», посвященные возвышенному искусству, чей катехизис они знали назубок.
Проезжая мимо, народ поглядывал на закрытый дом на улице Фонтен-дю-Руа, где создавались шедевры, о которых говорили не только в городе, но и во всей Франции, и где проводились незабываемые часы за столом, до которого мало кто был допущен. Иностранцев водили мимо его скромного серого крыльца и зеленых ставен, как водили на экскурсии в «Кафе де Сакс», в ратушу, построенную в милом стиле времен регентства, в церковь, нелепое здание в стиле рококо, в котором неожиданно открылся трогательный романский портал.
Если уж говорить начистоту, страсть Додена-Буффана породила в городе благородное подражание.
Одни, осознав в глубине своей души величие его творчества и полагая, что страсть их великого соотечественника является неисчерпаемым источником чистых радостей, начали привносить в свою собственную жизнь оттенки утонченности. Другие, движимые низменной ревностью, изо всех сил пытались доказать, что вкусно поесть можно не только в доме Додена-Буффана. Третьи, быстро смекнув возможную выгоду от такой славы, поняли, что город, где живет прославленный гурман, может привлечь немало туристов, после чего тут же открылось большое количество небольших трактиров, а гостиницы значительно подняли и без того высокий уровень своих харчевен. Французская кухня в этом крошечном городке в горном районе Юра под влиянием всего одного, но, несомненно, великого человека переживала эпоху Возрождения.
Нужно ли говорить, что нотариус Бобуа, торговец скотом Маго и местный лекарь Рабас, усердные и верные последователи Додена на протяжении многих лет, его посвященные ученики, победители дьявольски сложных испытаний, придуманных мэтром, стремящимся оградить себя только сведущими людьми, были единственными, кто во всех отношениях был достоин своего мастера, если и не из-за их творческого гения, то хотя бы благодаря тонкой способности ценить и наслаждаться.
Поэтому можно считать если не чудом, то весьма необычным стечением обстоятельств то, что муниципальному библиотекарю Трифуйю было вдруг разрешено каждую неделю сидеть в этих огромных плетеных креслах, специально сконструированных таким образом, чтобы у гостя было желание не только отведать пищу, но и, переварив ее, отправиться за добавкой, и в которых раньше размещали свои округлости только три верных апостола Додена.
Итак, однажды зимним вечером, когда Бобуа, Рабас и Маго, пресытившиеся и расстегнувшие пуговички на своих сюртуках, хорошо промаринованные хересом и сдобренные горячим паштетом из белого фазана с острыми специями, сидели в ожидании фрикасе из белых грибов с Шато д’Икем[13], в дверь раздался громкий стук. На улице у двери стоял мужчина, серьезный, запыхавшийся, держа в руках накрытое фаянсовое блюдо.
– Умоляю вас, месье Доден, – сказал Буринг, начальник почты, – немедленно отведите меня в вашу столовую, чтобы, – и тут он жестом, насколько позволяла его драгоценная ноша, указал на блюдо, – оно не успело остыть. Я мчался к вам со всех ног. Уверяю вас, у меня в руках настоящее блаженство. Когда всего мгновение назад я вкусил это, сидя за столом у Трифуйя, мне показалось, будто ангелы сошли с небес, и я понял, что обязательно должен принести вам попробовать этот удивительный шедевр. Ибо Трифуй прямо на моих глазах сотворил это невыразимое чудо…
О проекте
О подписке