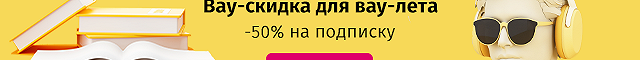
Четыре гурмана и Эжени Шатань
Знойный летний полдень на Ратушной площади, пустынной и залитой светом. О признаках жизни теперь здесь напоминают лишь высушенные на солнце, запыленные липы. Безлюдность и жара заполонили небольшое «Кафе де Сакс», расположенное на входе в провинциальную гостиницу, где герцог де Кулант во время своего недавнего вояжа соизволил подкрепиться фрикасе и тремя внушительными бутылями местного свежего вина.
В темноте зала тусклый свет, пробивающийся сквозь жалюзи сомнительно-желтого оттенка, выхватывает уныло-коричневые пятна четырех обитых плюшем банкеток, столешницы из потертого мрамора и красные, зеленые и желтые стекляшки, наполненные сиропами, настойками, аперитивами и ликерами, создающие разноцветный алкогольный ореол за стойкой вокруг хозяина. Сам он сидит на высоком табурете, в рубашке с длинным рукавом, толстый и лоснящийся, лысый и угрюмый, надежно защищенный забором из стаканов. Судорожные попытки разогнать мух, облаком облепивших складки его тела, никак не сказываются на удивительной сдержанности его чела, отягощенного смутным беспокойством и невысказанными переживаниями.
Это беспокойство, эти переживания, несомненно, терзают и двух клиентов, в размышлениях обо всех тяготах мира склонившихся над пустыми кофейными чашками, окруженными сложной композицией из банок, спиртовок и емкостей, где только что готовился драгоценный напиток.
Раскинув руки вдоль стола, более худой, или скорее менее упитанный, поднимает голову, являя миру побагровевшее лицо – обрамленное белоснежными прядями, оно кажется еще более пунцовым. Невозможно не обратить внимания на его рот с губами столь любопытной и своеобразной формы. Длинными и тонкими, созданными, казалось, исключительно для того, чтобы бесконечно наслаждаться совершенством вкуса, которое они ищут повсюду.
– Ты подумай, а как же Доден? Справится ли он? Ведь это потрясение всей жизни.
Эти скорбные слова, произнесенные Маго дрожащим голосом, упали в тишину, которую даже неукротимые мухи больше не осмеливались нарушать.
Маго откидывается на банкетку, демонстрируя выпирающее брюшко, которое, хотя еще и не достигло гротескных размеров, выглядит так, словно предлагает взору невидимых покупателей великолепную цепочку золотого цвета, изящно скользящую по его изгибам. Он жует свисающий ус, один из тех усов, с которых неизбежно капает вино после того как пропустишь пару стаканчиков, которые беспощадно ставят своих владельцев перед невозможным выбором: отказаться от вкуснейшего наваристого супа или разориться, оплачивая химчистку. В его небольших живых глазах появляется странный взгляд, когда, как и сейчас, печаль вдруг затмевает их привычный блеск. Кажется, будто он страдает от одной из тех печалей всех толстяков, которую всего один нюанс заставляет выглядеть немного смешной.
– Ох! Боюсь об этом даже подумать, – отвечает Бобуа после минутного молчания.
Бобуа – местный нотариус, Маго – торговец скотом.
Угроза несчастья, нависшая над гостиницей, затронула двух ее единственных постояльцев: сидящие немного поодаль в предчувствии события, о природе которого они даже не подозревают, они прерывают свою игру в карты. Эти случайные гости, коммивояжеры, чья оживленная беседа стихает в атмосфере катастрофы, сгущающейся над городом, явно немного смущены, наблюдая за той глубокой болью, которую переживают совершенно незнакомые им люди.
Да… над целым городом, потому что те немногие прохожие, которые все-таки решились выйти на улицу в этот душный час, медленно идут, переговариваясь взглядами, пересекают бок о бок площадь, подходят к кафе и прямо с порога в ожидании новостей вопросительно кивают хозяину, который в глубине души даже рад, что оказался в самом центре события. Затем они бросают Бобуа и Маго один из тех неопределенных взглядов, которыми обычно люди выражают сочувствие неминуемому горю других и одновременно радость, что их самих Господь миловал.
Неосознанно, по привычке, чтобы облегчить ожидание и утешить себя, Бобуа снова наполняет стакан для вина золотистой жидкостью, которая густым потоком льется из пузатой бутылки. Он растерянно смотрит на ободранную по бокам этикетку, надпись на которой знает наизусть. Подносит к носу край стакана, зажатого в кулаке, наклоняет чуть набок, слегка пригубляет напиток, закрывая глаза.
– Пятьдесят шесть лет! Даже еще не старая.
Прохожие на улице, которых все еще мало, хотя уже пробило два часа, внезапно останавливаются, переговариваясь о чем-то вполголоса, а затем следуют за доктором Рабасом, который торопливо пересекает площадь, согнувшись пополам, с опущенной головой, той претенциозной и задумчивой походкой, что свойственна людям, несущим серьезные вести, или людям, страдающим острой кишечной коликой.
Некоторые прохожие его расспрашивают, он отвечает только кивком головы. Эмоции душат его. Одной рукой он сжимает большой носовой платок, которым вытирает то ли слезы, то ли струящийся пот, другую прижимает к какой-то неопределенной части своего тела: может, желудку, а может, сердцу.
Хозяин «Кафе де Сакс», издалека разглядевший его приближение, подходит к Маго и Бобуа, чтобы подготовить их к неизбежному:
– Доктор!
Эти оба уже подскочили и направились к выходу, руки безвольно опущены, взгляды растерянные.
Хозяин так и не вернулся за стойку. Коммивояжеры подхватились и встали, сами не понимая почему. И всем пятерым мужчинам, вытянувшимся в дверях в долгом ожидании, запыхавшийся, со шляпой в руках, непрерывно вздрагивающий и машинально вытирающий свое заплаканное лицо доктор Рабас сообщил прямо с порога:
– Все кончено, кончено. Она только что скончалась… – И тут же бессмысленно добавил для слушателей, которые его больше не слушали, туманное медицинское объяснение: – Это был разрыв варикозной вены.
Мрачное оцепенение, охватившее кафе, быстро сменяется скорбной тишиной, столь не похожей на ожидающее молчание. Потому что горе теперь здесь, оно настоящее. Теперь оно осязаемое, его не нужно больше бояться. Угроза осуществилась, разразилась, она перестала витать в воздухе. И своего рода это тоже облегчение. По крайней мере, появилась некая определенность.
Коммивояжеры, оказавшиеся за рамками скорбящей группы, уже отступили в свой лагерь, возведенный из стаканов, чашек, газет, телефонных справочников и игральных карт, когда, застегивая на ходу жилет, дабы принять вид достойный и соответствующий, а также подчеркнуть, что он не чужд трагедии, к ним подошел хозяин. Они спрашивают его:
– Неужели все настолько?..
– Ох, не спрашивайте меня, месье! Это невосполнимая утрата. Эти господа, – он указывает на Бобуа, Маго и доктора, – возможно, величайшие гурмэ во Франции, во всем королевстве нет лучших знатоков. Ах, если бы вы слышали, как после каждого приема пищи они говорили о ней! Изумительно, это было просто изумительно! Я сам однажды имел честь отведать блюда этой кухарки. Однажды месье Доден-Буффан, когда я получил для него сливовую ратафию[1] 1798 года, угостил меня паштетом из грудки индейки с желе из мадеры. Ах, господа! Я в жизни ничего подобного не ел!..
Рабас, Бобуа и Маго вполголоса обсуждали последние минуты агонии. Технические подробности, пересказываемые доктором, странным образом смешивались с воспоминаниями о безупречных вальдшнепах, непревзойденных белых трюфелях, заливных пирогах, кроликах на сметанной подушке, изысканной курочке «на завтрак»… и все трое мужчин, включая Рабаса, чье бородатое одутловатое лицо выражало весь скептицизм и потрепанный материализм старого доктора, внезапно узнавшего, что пациенты иногда умирают, вдруг ощутили на веках теплоту надвигающихся слез.
А как же еще? Эжени Шатань, кухарка Додена-Буффана, умерла! Она исчезла в самом расцвете своего гения, непревзойденная художница, благословенная хранительница всех кулинарных сокровищ, чьим искусством они с благодарностью наслаждались на протяжении десяти лет, сидя за столом знаменитого на всю Францию мэтра! Обладающая исключительным талантом к созданию величайших шедевров кулинарии под руководством короля и бога в вопросах гастрономии, она дарила им редчайшие вкусовые ощущения, переполняла их эмоциями, возводила их к вершинам блаженства. Эжени Шатань, вдохновенный переводчик высших замыслов, заложенных Матерью-Природой во все продукты питания, благодаря своей внутренней элегантности, таланту, безупречности вкуса и безошибочности исполнения смогла вырвать кухню из лап материальности, чтобы возвести ее в абсолют, перенести в наивысшие трансцендентные области, доступные человеческим представлениям.
И разве не ей эти трое были обязаны посвящением в великий культ, превращением в компетентных, нет, в высших судей, в любителей, достигших уровня неуязвимой научной компетенции? Разве не она открыла им глаза на то, в чем было их истинное предназначение? Разве не она сформировала их вкус подобно великому музыканту, оттачивающему слух своих учеников, подобно гениальному художнику, расширяющему видение своих последователей? В этот час они вспоминали о ней. И слезы, которые глупая стыдливость пыталась спрятать под их припухшими веками, говорили громче слов, выражая глубокую признательность за радости прошлого и благодарность за будущее, которое она уготовила для них. В школе высокой кухни Додена-Буффана она значительно развила свой природный гений, обрела уверенность в себе, познала мастерство, науку, научилась обращаться с ароматами и вкусами, и это подарило ей известность от Шамбери до Безансона, от Женевы до Дижона, в том регионе Европы гастрономия, несомненно, достигла своего наивысшего развития. Эжени Шатань прославилась наравне со своим хозяином, Доденом-Буффаном, Наполеоном гурмэ, Бетховеном на кухне, Шекспиром за столом! Особы королевских кровей тщетно пытались проникнуть на эту скромную кухню, куда были допущены только трое проверенных и достойных посетителей. Но какие изысканные, неземные блюда вкусили там эти избранные! Сегодня они оплакивали эти старые времена, оплакивали воспоминания об этой дружеской близости, о радости, которая для любого человека с добрым сердцем и крепким духом навсегда остается сопряженной с поэтическим послевкусием выдержанного бургундского и божественным землистым ароматом идеального трюфеля. И чтобы доставлять им эту радость, разве не отвергала Эжени, храбрая Эжени, предложения государя, министра и кардинала? Внезапно Рабас, немного придя в себя от волнения, печально сказал:
– Доден ожидает вас. Он попросил меня проводить вас к нему.
Бобуа и Маго смиренно сняли с вешалки свои шляпы и, дрожа перед лицом предстоящей встречи с болью близкого друга, отправились в путь.
На улице, убегающей вверх, несколько прохожих обсуждали случившееся. Бросая украдкой сочувственные взгляды на дверь дома, где скорбел Доден, они почтительно поздоровались с тремя друзьями, которые пыхтя продолжали идти. Поднявшись по скромному крыльцу, откуда можно было попасть в дом, траурно закрывший свои ставни, Бобуа остановился, обеспокоенный, со шляпой в руках, чтобы выразить общую мысль этих добрых людей, непривычных к мысли о смерти:
– Не нужно никаких речей – нет таких слов, чтобы это выразить.
О проекте
О подписке