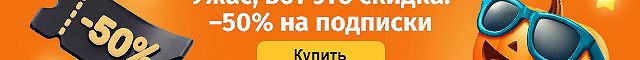
Женя, стиснув зубы, приподнялся и что есть силы швырнул одну, потом вторую «лимонку» в ближнюю группу немцев. Среди немцев здорово громыхнуло. Он упал и, развернувшись в сторону второй группы, нажал на гашетку своего ППШ. Не мог Женя видеть, что в нескольких шагах от него, за его спиной, была третья группа немецких солдат. Сначала, когда он открыл огонь, они от неожиданности залегли. Но опомнившись и увидев, что огонь ведёт лишь один, по всей видимости, раненый солдат, забросали его гранатами.
Жорка матерился, но полз вперёд. По взрывам слева он понял, что теперь, несмотря на то что он так старался отвлечь внимание немцев на себя, он остался один в прикрытии отхода своей разведгруппы.
«Погиб Женька… Эх, Кирпичик ты мой… Братка… Упрямый…» – пронеслось у него в голове.
Когда понял, что их разведгруппа с двумя пленными уже отдалилась на безопасное расстояние, тоже решил уходить. Как только погасли ракеты, Жорка успел отбежать в сторону метров на двести. Понимая, что клубок пламени, вылетающий из ствола и отверстий кожуха его ППШ, является ночью для немцев отличной мишенью, он стрелял, ловко меняя места, держа автомат над головой.
Но вот опять вверх взвились ракеты – и его обнаружили. Открыли просто ураганный огонь. Пуля угодила в ногу. Удар был огромной силы. Жорка упал на лёд. Немцы снова, как назло, осветили весь берег ракетами. Пули шли на него огненной стеной, вздыбливая вокруг осколки льда. Он лежал, вжимаясь в лёд, а пулемётные очереди проходили над ним, не попадая, но вырывая клочья из его фуфайки, ватных брюк и даже из валенок.
«Похоже, и я отвоевался», – пронеслось у него в голове.
Георгий Васильев ушёл на фронт мальчишкой, когда ещё даже не окончил школу. Его зачислили в военно-воздушную бригаду. Родителей своих он не помнил. Вернее, совсем их не знал. Так, что-то туманное всплывало из далёкого детства, какие-то тёплые руки, запах мамы, обнимающей его. Потом ему вспоминался только арзамасский детдом.
Тяжелы были эти воспоминания. За свою жизнь и место в этой жизни надо было постоянно драться, иначе пропадёшь. Не было у него никогда друзей. Всюду в этом мире он был один – никаких близких.
В начале войны он участвовал в боевых действиях в составе Второго и Третьего Украинских фронтов, был командиром отделения. Жорка почему-то вспомнил первого убитого им фашиста. Они отдыхали в лесочке, когда он услышал немецкую речь. Потом ему объяснили, что это немец-радист передавал по рации информацию о себе, где находится. Его оставили как шпиона-разведчика, этого немца. Жорка выбежал к немцу и по усвоенной ещё в детдоме привычке – бить всегда только первым – с силой приложился тому прикладом по голове.
Потом было ранение под Вязьмой. Госпиталь. После переформирования он попал в эту – свою роту. Рота действительно сразу стала своей. Скорее, не рота, а их разведгруппа. Впервые он был не один. Здесь обрёл он настоящего друга.
В их самую первую вылазку он, всегда ловкий и юркий, неосторожно, а может, по глупости, слишком лихо перепрыгивая через валежник в лесу, подвернул ногу. Они уходили тогда с «языком». «На хвосте» у них сидели какие-то очень настырные немцы, которые их долго преследовали и всё никак не отставали. Всё гуще и гуще свистели вокруг них немецкие автоматные очереди. Упав и взвыв от неимоверной боли в подвёрнутой ноге, Жорка успел только подумать: «Всё… Хана мне…»
Но бежавший за ним и отстреливающийся от немцев Женька Ряхин вдруг легко подхватил его и, почти не сбавляя темпа, побежал с ним дальше. Ошеломило в тот момент Жорку не столько это, а то, что Женька не взвалил его себе на спину, а прижал к груди. И нёс его так какое-то время.
Они отстали от группы, а когда вышли к своим, он спросил Женьку:
– Ты чего меня так сначала понёс? Это же тяжелее и неудобно.
– Это я, чтобы в тебя пули не попали, – улыбаясь ему, ответил Женька.
– А в тебя-то пули, что? Не могли попасть?
– Мне-то чего? Я ж Кирпич, и спина у меня – кирпичная, – хохотнул Женька.
С того момента и началась их дружба…
Отчаянно матерясь, он приподнялся на колени и локти, пытаясь отползти от этого проклятого освещённого ракетами места, где он был виден как на ладони. Сильно ударило в плечо, потом в живот. Жорка упал. Немцы стрельбу прекратили.
К нему медленно, держа автоматы наизготовку, приближались несколько фрицев.
«Идут добивать, гады», – зло подумал он и достал гранату.
Жорка лежал не двигаясь. Он затаился и ждал момента. Вдруг враз погасли все немецкие ракеты и стало темно. Он перевернулся и лёг лицом к идущим немцам, и когда они были уже в двух шагах от него, выдернул чеку из гранаты…
Подумав о ребятах, Иван закрыл глаза, заскрипел зубами. Почти забытое, отложенное куда-то на глубину памяти чувство обожгло его. Ужасное чувство утраты и тяжёлое ощущение своей вины. Вины за то, что он жив, а они погибли.
Тогда ещё убило одного из взятых немцев и ранило Кошеню. Иван взвалил его себе на плечо, пытаясь одной рукой помогать тащить притихшего грузного, тяжёлого второго немца. Через какое-то время он сам чуть не свалился, вконец обессилев. Кошеню подхватил Дед, легко, как невесомого. Петляя заснеженными перелесками и одному ему понятными тропами, старшина вывел их к своим. Кошеня очень быстро, за месяц, поправился и вернулся к ним из госпиталя.
Дед умел чётко ориентироваться в сложных ситуациях и всегда угадывал, где надо действовать нахрапом и без промедления, а где подождать, столько, сколько потребуется – хоть сутки, хоть дольше.
В одну из таких весенних вылазок, уже в марте сорок второго, на окраине деревни, занятой фашистами, их группа провела больше трёх суток в ожидании во дворе разваленной авиабомбой хаты. Они, спрятавшись за скособоченной стеной, вели наблюдение за перемещением и количеством немецкой техники и живой силы. Как приказал Охримчук, они разбились на группы и сменяли друг друга. Пока одни отдыхали, другие дежурили. Иван был в паре с Николаем.
Они сидели друг напротив друга, облокотившись на брёвна и подставив лица начавшему по-весеннему пригревать мартовскому обманчивому солнышку. Весна в этом году выдалась холодной, зима была затяжной. Они с Дедом тихо разговаривали. У Ивана за плечами было почти четыре месяца в разведгруппе. Многое уже было пережито.
Иван говорил старшине о жизни в Сталинграде, об Ольге, о родителях. Потом попросил Николая рассказать о себе. Дед ничего не ответил. Он как-то удивлённо посмотрел прямо в глаза Ивану, потом привалился головой к брёвнам, закрыл глаза и надолго замолчал. Молчал и Иван. Так они просидели не меньше часа. Ивану показалось уже, что Охримчук заснул, как тот, не открывая глаз, начал рассказывать.
14
– В роду моём все мужики были кузнецами. Отец мой, Михаил Терентьевич, держал в Белагородке, селе нашем, кузницу, которая досталась ему ещё от его отца, моего деда, тоже кузнеца.
В мирное время были кузнецами, а в военное – воинами. Отец мой воевал с германцами в первую войну. Дед ходил на войну с турками. Оба с тех войн вернулись, и дома их дождались. А мне и возвращаться некуда…
Николай тяжело вздохнул и опять надолго замолчал. Иван молча ждал, когда он продолжит. Охримчук поднялся и, пригибаясь, неслышно, по-кошачьи, пошёл проверить ведущих на своих постах наблюдение Кошеню с Феликсом и Монаха с Флаконом. Вернувшись, пристроился на том же месте и продолжил:
– Я тоже стал кузнецом. Мальцом ещё постоянно помогал отцу. В 1927 году отца перевели работать кузнецом в нашем колхозе. Потом, с 1930 года, и я стал кузнечить в колхозе нашем.
К нам в Белагородку несколько семей переехало из окрестных сёл и деревень, чтобы жить и работать рядышком с колхозом. Белагородка – маленькое село, но были дома, которые пустыми стояли. Там все и разместились.
Тогда и познакомился я со своей Олесей.
Они к нам с отцом, матерью и бабкой приехали. Олеся дояркой к нам в колхоз устроилась, как и мать моя, Арина Андреевна.
Многих девок я до Олеси знавал. Иные сами мне на шею вешались. Парень я видный был, что уж говорить. Не то что теперь…
Дед хмыкнул и, немного помолчав, продолжил:
– Шевелюра с чубом у меня богатая была, девки за волосы постоянно меня тягали, да и сам я бойкий до девок был. А как Олесю на нашей улице увидел в первый раз, так и замер на месте. Ни сдвинуться, ни сказать ничего не могу.
Высокая, ладная вся, тёмные глаза под бровями вразлёт так и светятся. А глубокие они какие… Лучше в них и не заглядывать, утонешь и пропадёшь совсем. На губах её всегда озорная, иногда чуть насмешливая улыбка играет, а на щеках – ямочки. Что за чудо эти ямочки… Вспоминаю сейчас их, и так каждую расцеловать хочется, что сил нет…
Улыбнулась она мне и прошла мимо, а я пень пнём стою и взглядом только её провожаю. С того момента мне каждый день видеть её надо было. Просто не мог я без этого.
Подружились мы не сразу. Но и я ей в конце концов приглянулся. Встречались вечерами, после работы, провожал её до дома. Стал у них частым гостем.
Но недолго я покузнечил в колхозе. В 1931 году пошёл служить. Попал на Черноморский флот, где за три с половиной года сделали из меня настоящего военного человека. Но после службы в колхоз вернулся.
Олеся дождалась меня из армии. В тридцать пятом году сыграли свадьбу. Жить у нас стали. А тридцать шестой год, как вся жизнь наша, был и горестным, и радостным.
Олесе уже рожать, да захворала сердцем мама моя, Арина Андреевна. Всегда крепкая была, да чего-то расклеилась. Маму отвезли в районную больницу. Туда же, в родильное отделение при больнице, отвезли и Олесю.
Родилась дочка у меня. Мы заранее решили, что, если сын родится, Терентием назовём, а если дочь, то Оксаной.
Сыновей мне Бог так и не дал.
А Оксаночка родилась такая хорошенькая, ямочки на щёчках такие же, как у Олеси. И всё гугулит чего-то, а когда молочка из маминой груди напьётся, то улыбается и засыпает с улыбкой своей ангельской.
Когда из родильного отделения выписывались, зашли к маме в палату внучку показать. Как она рада была! Олесю и Оксаночку всё прижимала к себе, целовала обеих, плакала от радости и тут же смеяться начинала. Мы домой уехали потом, а мама к утру умерла – сердечко её больное не вынесло радости такой. Вот как бывает…
Горько это было… Но стали мы в избе нашей вчетвером жить: отец, я с Олесей да Оксаночка. А через год подарила мне Олеся ещё дочку. Ариной назвали, в честь мамы. Такая же, как Оксана, мамина дочка получилась – с ямочками. Ариша, как ходить начала, вечно хвостиком за Оксаной держалась. Куда Оксана, туда и она. Обе дочурки хохотушки страшные были. Всё их веселит, а если что не смешно им, то всегда они сами повод найдут, чтобы вдоволь нахохотаться.
Любил я их без памяти. А с дедом их, отцом моим, вообще что-то непонятное приключилось. Из сурового и строгого мужчины превратили его внучки в счастливого, обожающего их друга и заступника. Во всём он им потакал и все их шалости покрывал.
Работали мы с Олесей в те годы много. Хлопотали всё, суетились, о чём-то печалились. А не понимали, что это было самое счастливое время в нашей жизни. Не ценили мы этого. Не умели… Правда, жили душа в душу. Никогда толком не ругались и не ссорились. Так, если по мелочи какой да ненадолго.
А какие у нас места красивые! Ты бы знал! Гоголь свои «Диканьки» с нашей Белагородки писал, ей-богу. Летние дни такие же, как у него в книгах, – роскошные и чудные. Небо, морем бескрайним над землёй раскинутое, и дубы, и подсолнечники, и поля, и стога сена в них. И сады, и блестящая на солнце речка. А жаворонки в небе! И чайки, и перепела. Всё как будто про нас написано.
А ночи какие! Ароматные! Звёзды яркие, над самой головой нависают, протяни руку и сорви. А луна в ночной тишине, точно прожектор на военном корабле или маяк, заливает всё своим особым светом.
Село наше красиво на холмах раскинулось. Зимой снежно бывает. Детворе горки готовые – только и катайся с холмов. Над хатами дымок вьётся. Выйдешь вечером во двор, глотнёшь воздуха и пьян от этого только. На холмах окошки домов светятся нарядно, мерцают, как звёздочки, между собой перемигиваются. Так и кажется вечерней тёмной порой, что высунется из печной трубы гоголевский чёрт и потрусит, пригибаясь, по крышам – месяц красть. А я себе в такие зимние вечера кузнецом Вакулой казался. Смешно…
Благодатный наш край сказочно. А земля какая плодородная! Шутили у нас на селе: весной в землю можно палку воткнуть, а осенью на ней что-нибудь да вырастет. Я так у себя во дворе, ещё пацаном, иву плакучую посадил. Принёс как-то прутик ивовый, поиграл-поиграл с ним да и воткнул в землю на краю огорода. А он возьми да и приживись, корешки пустил. Тогда я ту иву поливать начал, да от кур наших оберегать, которые у нас по двору гуляли, да всё норовили её из земли выдернуть.
Окрепла моя ивушка и выросла такой красавицей, что я мог долго на неё любоваться. Обнимал её и всегда с ней разговаривал, как с живой. Это меня дед Терентий, пока жив был, научал:
– Всё, Миколка, вокруг нас живое. Всё дышит, даже если ты этого не видишь. Люби и попусту не обижай ни человека, ни зверя, ни растения, ни дома своего, ни речки, ни – Боже упаси – дерева. Со всеми здоровайся мысленно, разговаривай. И тебе все рады будут.
Чудной у меня дед был. Не всегда я его понимал. Но с ивушкой своей я всегда разговаривал. Олеся, когда к нам переехала, тоже её очень полюбила. Часто под ней сидела, задумавшись, и тихо улыбалась. Говорила:
– Спокойно мне всегда под ивою твоей. Ласковое дерево.
Мне иногда казалось, что похожи они с ивушкой чем-то были. А чем и как, я тебе и объяснить толком не смогу.
Дочки мои как чуть подросли, так всё залазили на неё. Будто пацанята какие. Подолгу могли так на дереве сидеть, прячась в листве, играя. Дед на них всё за это сердился. Боялся, что свалятся и ушибутся.
Вспоминаю эти благословенные годы и удивляюсь, как не умел я жить настоящим. Радоваться не умел. Всё о будущем тревожился, о жизни лучшей для себя и семьи своей. А настоящего-то и не видел. Только сейчас понимаю это как счастье. Глаза закрою и в то время возвращаюсь. Так бы там и остался, если бы мог.
А будущее, совсем не такое, как мы себе загадывали, на нас грозно обрушилось. Как неистовая буря.
О проекте
О подписке
Другие проекты



