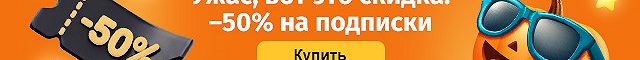
Как война началась, меня сразу призвали. Да я и сам на фронт рвался – уж больно близко враг был от родного дома. Отец добровольцем просился, да не взяли его:
– Куда ты, старик, – сказали, – без тебя есть кому воевать.
Да уж… Я думал, меня во флот направят, но нет. Попал я в пехотный батальон. Воевать начал на Юго-Западном фронте.
Комбат наш мировой мужик был. Ещё старше меня. Невысокий, но крепкий, седой весь. Отчаянной смелости человек был. В атаку нас за собой поднимал – в полный рост на вражеский огонь шёл. А ведь людей в атаку поднять – это, брат, пострашнее будет, чем самому подняться. Ты уж мне поверь, по себе знаю.
Да… Многое мы о себе узнали в эти первые дни войны…
Николай, замолчав, подгрёб к себе валявшуюся рядом сучковатую палку. Резко, как спичку какую, переломил её сильными ручищами пополам и отшвырнул в сторону. Потом он надолго замолк.
– Убили комбата-то? – спросил наконец не выдержавший долгой паузы Иван.
Ещё немного помолчав, Охримчук, как будто и не услышав вопроса, продолжил:
– Понимаешь, он, несмотря на свою храбрость и жёсткость, бойцам своим как отец был. Заботился, выгораживал нас, а сам потом от начальства получал. Часто говорил нам:
– На войне погибнуть – это слишком просто. А ты вражескую гадину бей да сумей уцелеть, чтобы потом продолжать её истреблять. Сохранись для жизни, но смерти при этом никогда не бойся и будь к ней готов.
Дрались мы отчаянно, гибло наших много. Но ведь и силёнки неравные были. Фриц как раз на нашем направлении основной свой удар по стране нанёс. Давил нас численным превосходством, и техникой своей, и внезапным нападением, конечно. Но мы в эти первые дни тоже ему хорошо по зубам надавали. Думаю, что мало где они такое яростное сопротивление встретили, как у нас. Хотя и драпали в те дни мы от немцев тоже сильно.
Очень тяжело отступать было. Но невозможно было не отступать. Если бы не отступали, хоть и с контратаками постоянными, то бомбёжкой, артиллерийским непрерывным огнём, техникой, танками своими совсем бы раскатал и истребил бы нас фашист.
Очень тяжело было с отчаянием людей бороться. Многие бойцы безнадёгой были полнейшей охвачены. Как во сне всё делали, да и, конечно, усталость была смертная, на ходу засыпали. А главное было – побороть в себе и помочь другим справиться с этим страхом, отчаянием, неверием в силу свою и покорностью перед сильным врагом. Заменить всё это надо было в себе и в других злобой на врага и верой в победу нашу. Мы и старались.
А вера эта, в нашу победу, была. Точно была! Только ей и спасались мы в те дни.
Нам время надо было ещё своим сопротивлением выиграть – в тылу наши силы стягивались, формировались усиленно.
Только медленно что-то и не вовремя как-то. Заранее бы всё. Плохо нас готовили к войне. Вот мы и не готовы оказались. Все силы, люди, вся техника по стране оказались разбросаны. Сразу в один кулак и не соберёшь.
Ты и представить себе не можешь, как горько и тяжко мне было отступать. Ведь мы уже, считай, в моих родных краях воевали в те дни. Хотелось зубами за землю вцепиться – и ни шагу назад. Но полноводным морем, волнами накатывала на нас немецкая махина, и откатывались мы назад, сметаемые и разбиваемые на части. Словно куски земли и глины под напором воды.
Разметало и наш батальон. Разбил его фашист на части, с двух сторон, в районе между Миклошами и Денисовкой, небольшими сёлами вдоль речушки Сименовки. А оттуда до моей Белагородки километров двадцать всего будет.
Горестно вздохнул при этих словах Охримчук, делая долгое ударение на первое «о» в слове «километров», и продолжил:
– Да, километров двадцать. Всего-то… Небольшой группой начали мы выходить из окружения. Комбат наш слегка раненный был в плечо, так лишь, задело его. Да со мной ещё десять бойцов. К своим надо было пробираться.
Наш фронт, Юго-Западный, в первых днях июля был отброшен немцами на рубеж реки Стырь, к Староселью, Аннополю. А в основном – к Изославлю, что был от нас примерно в сорока километрах.
Туда, к Изославлю, наш комбат и установил нам прорываться. А мне, как знающему здешние края, приказал выводить нас окольными тропами, обходя стороной крупные населённые пункты и большие дороги. Так как всюду были немцы.
Шли мы только ночью. Пробрались, когда светать стало, на окраину села Акоп. Само село начисто разбомблено и сожжено. Жителей не видно было. С самого краю, в перелеске, нашли мы полуразвалившийся сарай, да и решили там разместиться, отдохнуть, да и день переждать.
Мы в стороне с комбатом сели. Разговорились. Видно, он мне на тот момент крепко доверял уже. Поэтому и поведал о себе многое.
О том, что задолго до войны, ещё в 1937 году, он командовал целой дивизией. А в тридцать восьмом году был арестован и осуждён как враг народа на десять лет лагерей. Но весной 1941 года неожиданно вернули ему свободу, реабилитировали и сразу назначили, уже, правда, всего лишь командиром батальона. Да он и этому был рад.
«После того, что я в НКВД да в лагере прошёл, это не понижение в должности и звании, а немыслимое повышение было…» – так он мне сказал тогда.
Досталось ему, видать, в органах-то наших. Рассказывал он мне, что с допросов иногда в камеру на носилках возвращался. Так его с пристрастием допрашивали. Потом ему дней пятнадцать-двадцать давали отдышаться и – по новой… Помнил он лишь, как следователь шипел на него, когда его, обессиленного и окровавленного, с допросов уносили: «Подпишешь. Всё равно всё подпишешь!» Сам не понимал он, как выдержал. Вынес всю эту муку адову и не подписал ничего, не оговорил себя.
А сколько было таких, кто подписал… Говорил он, что среди сокамерников его много таких оказалось, которые на допросах о себе под давлением и побоями этими такого насочиняли… А потом безропотно все протоколы допросов, состряпанные следователем, подписывали. И чего только там не было. Один, например, «сознался», что происходит из богатого и знатного княжеского рода, а после революции жил по паспорту убитого им крестьянина. И всё это время он только и делал, что вредил советской власти. Чушь несусветная. Да для скольких такие «признания» потом смертным приговором обернулись. И до лагеря такие не дотянули. Комбат же одной лишь мыслью утешался: «Скорей бы умереть…»
Потом лагерь был. Сильно он сокрушался о том, рассказывая мне о тяжёлой своей лагерной жизни, что там, в лагерях, до войны сидели, ещё много осталось и до сих пор сидят самые лучшие кадровые военные, которых бы сейчас на фронт! А ведь многие и не дожили до начала войны – расстреляны были. Или сами в лагерях этих сгинули.
В общем, тяжёлый и неожиданный у нас с ним разговор получился.
Мы тогда у сарайчика этого дозоры с четырёх сторон выставили, а остальные спать кто где завалились. Я в первую смену дежурил, за дорогой наблюдал. По дороге этой безостановочно пёр фашист, двигались немецкие автомобили и мотоциклы, громыхали танки и техника, шли лошади-тяжеловозы, запряжённые в повозки, гружённые оружием, двигались бесконечные колонны пехоты, артиллерии на конной и механической тяге, полевые орудия всех калибров, лёгкие и тяжёлые зенитки, броневые машины всех видов, грузовики снабжения. Все они рвались вперёд и обгоняли друг друга. Дорога была полностью забита. И все они направлялись на восток.
Лежал я, смотрел на дорогу и думал: «Сколько же их, людей да техники, на нашу землю, словно воронья, слетелось! Жаль, патроны у нас все кончились. А если бы были, ей-богу, не удержался бы – вдарил по фашистам. Кого-никого, да и убил бы, а там будь что будет…» Из всех нас у комбата только ТТ был, да у меня нож в сапоге был припрятан.
К полудню сморило меня. Растолкал я одного бойца спящего, Богданом, кажись, его звали, и наказал вместо себя наблюдать. Сам спать завалился. Но не в сарае, а отполз чуть в сторону от него, в кустарник. Сон меня сразу свалил.
А проснулся от грохота, разрывов да автоматного треска. Еле-еле удержался, чтобы не вскочить от испугу да спросонок. Лежу оглядываюсь. Сарай-то наш весь скособочило, да и дым из него идёт. Так и не понял я, гранатами ли, из пушки ли или из миномёта по сараю вдарили. А дозорные заснули, видимо. Со стороны дороги несколько немцев в серой форме цепью идут с автоматами. От сарая четверо наших бойцов в сторону метнулись, так те по ним очередями дали. Все попадали. Двое, похоже, сами залегли, их не задело. Одного сразу на бегу очередью срезало, я это увидел. А один упал, лежит, извивается и благим матом орёт, в колено вцепился. Пулей видать перебило ему колено-то.
Фашисты, громко, горласто перекрикиваясь, к ним двинули. Ну до чего ж собачий у них язык! Говорят точно гавкают.
Я к сараю скользнул, сунулся в развалины его. Всё дымом заволокло, сарай с одной стороны уже огнём занялся. Ничего не видно. Прополз чуть вперёд, увидел – комбат наш лежит. За живот схватился, побелел весь и зубами скрипит.
«Жив?» – спрашиваю.
Он прохрипел мне: «Да, жив. Живот осколком посекло».
Смотрю, а у него из-под пальцев кровь сочится. Плохо дело.
Ну, думаю, выбираться надо и комбата выносить. Подхватил его – и ходу к кустам, а там перелеском подальше от сарая и от дороги. Бегу, оглядываюсь, благо из-за дыма немцы нас не заметили. Они ещё и на бойцов упавших отвлеклись. Услышал я, как фашисты короткими очередями всех добили. И никто не кричал уже.
Прибавил я шагу, а комбат на каждый толчок вперёд глухо стонет. В небольшой овраг спустились мы. Остановился я, комбата аккуратно положил. Сам на пригорок поднялся осмотреться. Вроде оторвались. Да и никто, похоже, нас и не преследовал.
Изорвал я тельник свой, что под гимнастёркой был. Как смог комбата перевязал. Да лучше ему не становится.
Решили тут темноты дождаться и к своим пробираться. Да к вечеру умер комбат наш. Подозвал меня перед тем и сбивающимся в хрип голосом сказал к Изославлю мне одному выходить. По пути кого встречу из наших, с собой вести. Передал мне планшет свой командирский, что на ремне у него висел, да ТТ свой отдал, сказав: «Один патрон ещё там остался. С умом используй».
Потом за руку меня схватил, к себе притянул и прохрипел мне, задыхаясь: «Дойди до наших, браток… Сумей… К нашим когда выйдешь, расскажи всё про нас. И про меня… Документы мои передай обязательно… Нельзя мне пропасть без вести… Слышишь? Понимаешь – нельзя! Умереть, погибнуть можно… А без вести – нельзя. Расскажи там, у наших когда будешь, как я погиб…»
Я ему: «Не переживайте, товарищ комбат. Я всё сделаю. Но мы сейчас отдохнём. Вы поспите, а там и силы будут. Вместе с вами к своим и выйдем».
Улыбнулся он мне устало так и говорит: «Ты прав. Я, пожалуй, посплю».
И заснул вроде. А через час я его проверил, да он и не дышит уже.
О проекте
О подписке
Другие проекты