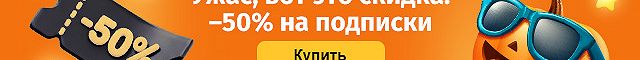
Решил я через Белагородку свою на Изославль выходить. Там, думаю, и днём, может, у своих смогу отсидеться. На рассвете только до родного села своего добрался.
Никогда этого дня, пятое июля сорок первого года, я не забуду…
Туман в то утро стоял сильный. Мягкий запах тумана смешивался с запахом гари и дыма. Осторожно подходил я к селу. Но не страх засады или западни меня сковал тогда, а сильно я испугался давящей какой-то тишины. Всегда село полно самого разного шума. А тут как выключили все звуки. Ни птиц не слышно, ни собак, ни скотины.
Людей нигде не видно. Одни хаты дымятся сожжённые…
Сдавило мне сердце тревогой, предчувствием страшным. Не прячась и не скрываясь, помчался я опрометью к дому нашему. Подбегаю и вижу: цел. Цел дом наш! Но вбежал во двор, а дом наполовину обугленный стоит, и крышу его разворотило. Одна только стенка, на улицу выходящая, и уцелела. Непонятно, как и на чём держится ещё.
Обшарил я всё. Ничего, никаких следов не видно, и нет никого. Ивушка моя стоит только и грустно так ветками шевелит. Обнял я её, прижался к зелёному стволу.
«Как же так?» – спрашиваю её.
Да ничего она мне не ответила. Только тонкие ветви мне на плечи легли, словно обнимают…
От соседского дома только печь с трубой осталась. Всё остальное – пепелище. И тишина кругом. Уж не знаю как, а понесли меня ноги, точно сами по себе, на центральную нашу площадку, перед сельсоветом. Ну должен, думаю, хоть кто-то в селе остаться.
Куда все делись?
Иду я точно в бреду. Туман вокруг такой, что улица сельская наша расплывается. И непонятно мне: в глазах у меня всё плывёт или действительно такой туман сильный был. Смотрю, чуть в стороне, перед домом, где сельсовет был, накиданы не то доски какие, не то поленница покосившаяся какая-то. И гудит всё чего-то… Что за чёрт?
Подошёл поближе, да и всё оборвалось во мне, кровь как будто вскипела в жилах моих: это люди были мёртвые, оборванные все. В кучу свалены. А над кучей этой мухи роятся. Страшна была та груда тел, но ещё страшнее было то, что за ней было. В этой куче-то были взрослые брошены. А за ними, аккуратной стопкой такой, поменьше, как по линеечке, детки нашего села убитые были сложены. Поганая эта немецкая аккуратность всю душу тогда из меня вынула…
Николай осёкся, сгрёб с затылка свою шапку. Смял её и прижал к сухим, горевшим тихим пламенем глазам. Зарычал тихо, точно раненый зверь, плача совсем без слёз. На этот раз он замолчал надолго.
Иван, потрясённый услышанным, не мог пошевелиться, не то что спросить старшину о чём-то. Наконец Николай отнял шапку от глаз. Посмотрел на сидящего напротив него бледного, притихшего Ивана сухими, лишь немного покрасневшими глазами. Ободряюще и как бы успокаивающе улыбнулся Ивану печальной улыбкой, сказал:
– Все слёзы свои я в тот день раз и навсегда выплакал. Больше никогда не плакал. Не мог.
Все люди там были расстреляны. Многие в голову, да так, что и лица было не распознать. А только, скуля и подвывая, как волк раненый, разгрёб я всех…
Нашёл я там и Олесю свою…
Скорбное и строгое выражение застыло на лице её. А под левой грудью, на любимом сарафане, только красное пятнышко расплылось. Нашёл и дочек… Оксана и Ариша обе в грудь были застрелены. Ариша под Оксаной лежала. Наверное, младшую так, через старшую, и застрелили. Отца своего только нигде не нашёл.
Обезумел я тогда. Сгрёб их, обнял всех троих и долго так сидел с ними, плача, воя и крича в голос. Хотелось мне, чтобы фашисты на мои крики сбежались и застрелили меня. Вроде бы и услышал я короткую автоматную очередь. Кто, откуда стрелял, я и не понял. Почудилось, наверное, мне. Всё как в одном сплошном тумане было. Ревел я и думал: «Вот бы меня сейчас здесь просто застрелили. И всё кончилось бы…» Но никого не было в нашем мёртвом селе.
Вся жизнь моя, весь смысл этой жизни оборвался для меня в тот день. И не было никаких сил жить дальше.
Накричавшись вдоволь, достал я комбатов пистолет и в лоб себе упёр. «Застрелюсь тут, – подумал, – и всё кончится». Смотрю в чёрное дуло его и думаю: «Как раз последний патрон для меня остался». И застрелился бы, но вспомнил глаза комбата, когда наказал он мне с умом последний патрон использовать, вспомнил, что пообещал я ему документы его нашим доставить, и опомнился.
Подумалось: какой прок от моей смерти будет? Кто вместо меня всей этой сволочи отомстит?
Нет, понял я, умереть я всегда успею, но прежде как можно больше этой гадины фашистской на тот свет я отправить должен. За каждую здесь невинную душу убитую в десять раз больше я положить должен. Сменилось горе и отчаяние моё холодной яростью к врагу, который на нашу землю незваный пришёл и такие вещи немыслимые здесь вытворяет.
Перенёс я девочек своих к нам во двор и схоронил всех трёх рядышком, под ивою нашей. Ножом своим могилу им рыл, руками, до крови ободранными, с остервенением комья земли и глины разгребал.
Не смог я той ночью от них уйти. Всю ночь обнявши могилу пролежал. Под утро сон меня сморил. Не то сон, не то морок какой. Тогда они все три мне приснились.
Как будто иду я по полю пшеницы. Поле то бескрайнее, золотистое, колосья пшеницы ветром качает. И кажется мне, что не поле это, а море пшеничное волнами ходит. А я плыву по нему на своём корабле, на том, где я до войны служил. А девочки мои, все три, стоят в поле том и платочками мне машут, словно провожают куда. Ариша слёзы утирает, а Оксаночка ей: «Не плачь. Папа скоро вернётся к нам».
Олеся её одёрнула будто после этих слов: «Не говори так, дочка!»
Меня радость такая во сне охватила! Кричу им с корабля: «Как?! Вы живы! Родные мои, любимые, как же я рад!»
А они уже не в море пшеничном, а рядом со мной стоят, улыбаются мне. Олеся ласково по лицу мне рукой провела и говорит: «Не печалься так о нас. У нас всё хорошо. Мы ждать тебя будем, а ты не торопись к нам. Все дела свои закончи и возвращайся».
Я смотрю, а на ней сарафан тот самый… И под левой грудью пятнышко красное. Вдруг пятнышко это расти начало, расплываться. И всё красным вокруг стало. И сами девочки мои как будто красной дымкой подёрнулись и растворяться начали, точно прозрачными они были. Вспомнил я во сне всё, испугался, закричал – и проснулся.
Тихо было и прохладно. Поздние звёзды на небе ещё поблёскивали, да уже показывался, пробиваясь из-за холмов, свет от солнца. Да ива свои ветки на могилу к девочкам склонила.
С той поры они мне часто снятся. Разговариваю с девочками моими во сне. Этим и утешаюсь.
Выбирался я из Белагородки на рассвете. Хотел лесом уйти, а потом речушкой нашей Выдовой пройти до реки Гарыни, она в неё впадает. Вдоль неё перелесками к Изославлю пробираться.
За селом нашим, идя заросшим оврагом под дорогой, увидел на перекрёстке человека. Одет вроде не в форму, но на голове фуражка. На руке выше локтя повязка, а через плечо винтовка перекинута. Знакомой мне его полная фигура показалась. Приблизился немного и узнал его – Юрко Чалый, из соседней Чажовки. Сын Потапа Чалого, что счетоводом в нашем колхозе был. Я их ещё до армии знал. Семейство не вредное в общем, но только куркули они были, всегда прижимистые.
Один Юрко в стороне от дороги прохаживался. Огляделся я – никого вокруг нет. Да и вышел, совсем не таясь, ему навстречу. Он, меня увидев, вскинулся было, испугался. За винтовку сначала ухватился. Я ему: «Не дури, Юрко».
Подошёл к нему вплотную, винтовку сам у него с плеча снял, себе забрал. Он и не пикнул. Глазами только хлопает на меня. Вижу, узнал.
«Откуда ты, Микола?» – спрашивает.
«Из Белагородки», – отвечаю.
Он побледнел весь, затрясся.
«Уходи, – говорит, – отсюда. Спасайся. Я тебе помогу. По этой дороге скоро из Сосновки немцы поедут».
А сам мне всё в глаза заглядывает да весь мелкой дрожью трясётся. Я молча на него смотрю. А он мне поспешно так, словно очень торопится куда, рассказывать начал: «Немцы сначала к нам в Чажовку нагрянули, заехали с двух сторон в село четыре бронетранспортёра и мотоциклисты. Всех согнали в центр, но никого не тронули. Председателя сельсовета нашего, Хвилько старого, только отвели в сторону и расстреляли. Бабы заголосили, а один немец вышел вперёд, руку поднял и на чистом таком русском языке ко всем обратился. Сказал, что никого больше не обидят, что все мужчины села могут вступить в победоносную германскую армию и послужить новому закону и порядку. Этот офицер потом ещё троих пацанов застрелил, Михася и братьев Поповых. Они служить отказались. Михася колченогого помнишь? Он мотористом в колхозе работал. Так он, дурак, сразу отказался. Вышел вперёд и выкрикнул, что не будет врагам прислуживать. Тот к нему подошёл, улыбнулся и в грудь ему выстрелил. Михась и упал замертво. А мальцы Поповы дёру дали. Так их словили, и он пострелял их обоих. Страшно было…
У нас все, кто из мужиков остался, пошли к ним в полицаи. И батька мой пошёл, и я за ним.
Вообще и в Закружцах, и в Сосновке никого не тронули, хаты не жгли, только нескольких стариков расстреляли. Я слышал, как этот офицер говорил, что в нашем районе только четыре села подлежат полному уничтожению. И Белагородку твою назвал среди них. План у них такой был, значит, кого не трогать, а кого сжечь. Село твоё сначала с воздуха бомбили. Потом в вашу Белагородку они позавчера и нагрянули.
Я видел, Микола, как твой батя этого офицера на перекрёстке застрелил. Прямо в лоб из ружья своего охотничьего. Терентьич твой боевой дед оказался. Он ещё одного немца, что за рулём мотоцикла сидел, ранил, прежде чем они опомнились и стрелять начали. Немец тот потом умер. Убили немцы тогда батю твоего. Автоматами посекли, потом долго ещё мёртвого прикладами и сапогами били. А потом жителей села вашего, что не успели разбежаться, к сельсовету приволокли и всех расстреляли».
«А ты чего?» – спрашиваю его.
Он испуганно: «Да я ничего… Не делал я ничего! Со стороны только видел всё».
Смотрю я на его морду толстую, на повязку на руке, на фуражку с изображением орла со свастикой. А сам как пьяный. Качает меня из стороны в сторону. Он, видимо, что-то в глазах моих прочитал. Вскрикнул и пятиться от меня начал, а сам всхлипывает по-бабьи и приговаривает: «Ну чего ты, Микола? Что я мог сделать?! Ведь убили бы они всех нас. Я ничего не делал! Не стрелял я! Только убитых помог сложить в кучу. Мне с другими полицаями из наших приказали, я и сделал. А так и нас расстреляли бы».
Двинул я его кулаком в лоб. Он, как куль с дерьмом, свалился. Лежит, не встаёт, только охает да причитает: «Уходи, Микола. Я тебя проведу. Беги отсюда. Я отпущу тебя. Не трогай только меня».
Зарычал я на него: «Так это ты, тварь с…чья, меня отпустишь?! Подстилка фашистская, пёс шелудивый!»
Прыгнул я на грудь ему, руками его бычью шею сдавил и задушил гадину. Он даже и не сопротивлялся. Глаза только пучил на меня да обмочился весь со страху перед смертью.
О проекте
О подписке
Другие проекты