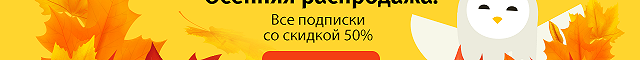
4
Я застегнула сумку, приготовила куртку, достала из коробки мокасины. Я купила их в торговом центре у Восточного вокзала полгода назад, но еще не надевала. Они выглядели как волшебные башмаки из японских манг. Я что, и правда надену их завтра? И буду вышагивать в них по бетону? В таких только по бетону. Если что-нибудь случится, со мной будут мои мокасины.
Погоду пообещали плохую.
Вообще-то, меня не пугала плохая погода. Я любила дождь, ветер, снег, вообще любое время года. То есть времена года я любила, а наше время нет. Все его несущие конструкции стремительно обрушились. Производство товаров, перепроизводство товаров, распад мироустройства, забастовки, обещания, обманы. Насилие. Слежка. Безумие. Слишком много безумия. Конца ему не было видно, оно добралось даже до нашего Буа Бани. Каждый день до нас доходили бредовые новости, например о распространении особого вида кабанов, перекормленных маисом. Всё, как у людей. Как этой тайной популяции удавалось расти и размножаться? А эти тяжелые грузовики, снующие по всему миру, закармливая его сверх меры и в то же время оставляя голодным? Я испытывала глубокую скорбь при мысли о страдающих ожирением кабанах. Но спрашивается, нужна ли кому-то моя скорбь. Я сожалела о том, что дикие кабаны уже не дикие, сожалела об их дикой щетине, о диком виде, об узловатых мышцах без единой жиринки, о куцей убогой шкурке, о роскошных кабаньих мордах… об их мире, сохранившем то, что человеческие существа разучились делать, приобретя речь, и о том, что с тех пор кабаны делали для нас: разрывали, рыхлили, раскапывали гумус, искали в нем горькие личинки, корни, побеги, желуди, буковые орешки, грибы, галлюциногенные и не только. Я жалела голодных кабанов, а еще сожалела о том, что снег теперь выпадает редко. Исчезли птицы. Иссякли источники.
В прошлом году стало известно, что охотники застрелили 128 кабанов во время всего лишь одной облавы, и кто-то из самих охотников назвал это резней, между тем как облава производилась по всем правилам Национального управления по охоте и дикой фауне. Этой осенью нам рассказали, что до наступления зимы в обоих департаментах надлежит истребить 35 тысяч кабанов. Я с трудом представляла себе их туши, сваленные в огромную кучу под солнцем, словно проклятое чрево ночи. Вообразив эту картину, я принялась выть, как случайно уцелевший после резни кабан, который все видел, спрятавшись в густом кустарнике.
Мир внезапно показался нереальным. Как будто на всеобщее обозрение было выворочено наше бессознательное, так быстро все произошло. Худшее могло случиться в любую минуту. Да оно уже случилось. Мы вдруг очутились в древнем оссуарии перед горой останков: человеческих, животных, растительных, и всё это, как в замедленной киносъемке. Время всеобщего ужаса. Кто мог отсюда спастись? Никто не мог спастись. Даже и не думайте спастись.
5
Дом примостился у подножия моренных отложений, покрытых лишайником. Лишайники – это биомаркеры. Некоторые из них, более слабые, давно исчезли с лица Земли. Зато другие, словно застарелые корки, сковывающие хребты кремнистых скал, выдержат всё.
Может, речь тоже переживет нас? Знаменитый логос уцелеет при божественной случайности, такой же, как появление на Земле человечества? Логос сильнее лишайников?
А между тем книжные магазины не сдавались. Некоторым удавалось держать удар, ими руководили девушки, которые заказывали вам билеты на поезд, бронировали номер в гостинице, встречали на вокзале, эдакие тридцатилетние девушки, которые буквально с младенчества обожали жанр антиутопии. При этом они отнюдь не были простодушными, а напротив, сверхпроницательными относительно грядущего, с пеной у рта защищали тексты, зачастую написанные женщинами, словно спасение могло явиться именно оттуда, они говорили studies (gender, queer, cultural, post-colonial, critical[18]), и от их слов, словно круги по воде, расходилось многократное эхо. И образовывались многократные течения. Волны. Мы присутствовали при третьей волне феминизма. А принимая во внимание, что каждая из них разбивается и дробится, может быть, и пятой. Как минимум. Я не считала. Воспитанная авангардистской матерью, матерью-феминисткой, хотя сама она и не знала, что феминистка, которая в двадцатые-тридцатые годы на всё отважилась и всё попробовала, которая нас, детей, выпихнула в жизнь безо всякого поводка и надзора, без контроля и наставлений, я к феминизму не относилась никак. И вот однажды, гораздо позднее, меня вдруг накрыло. Мне захотелось о нем узнать, и у четырех барышень, заправлявших книжным магазином «Рив Гош» в Лионе, я заказала дюжину книг.
Григ подтрунивал: Не понимаю, чего ты ждешь от этих своих штудий? Что ты собираешься искать у этих писа—тельниц? Смех безумной Офелии?
Получив коробку, я принялась вытаскивать книги одну за другой. В них все было блистательным: критика, концепции, теории. Я едва осмеливалась прикоснуться к ним своими руками, которыми только что разожгла огонь, просто запихнула их в первый ряд на полке, задвинув подальше предыдущий ряд.
И всё.
От этих новеньких книг шло такое сияние, что мне достаточно было просто на них смотреть. Как будто я все их только что прочитала разом и всё уже знала. И только какой-то тихий голосок посоветовал мне вернуться туда, откуда я пришла. Философские идеи – это не для тебя. К черту идеи. Не философствуй. Не теоретизируй. Даже не смотри в ту сторону. Ты не орнитолог. Ты птица. Пой. Больше от тебя ничего не требуется. Возвращайся в свои дикие заросли.
Я вообще хорошо себя чувствую только на окраине и в зарослях. Почему же мне всегда нужно удрать в заросли? Что там, в зарослях? Вот о чем я себя спрашивала, ложась в кровать, не забыв распахнуть окно в темноту, как я любила.
Некоторые авторы, прежде чем написать хоть одну строчку, громоздят целую стену разных документов и источников.
Мне уже давно не случалось поставить последнюю точку на последней странице романа. «Животные», вышли четыре года назад. Да, не скрою, хотелось, чтобы еще какой-нибудь роман был на подходе. Обнаружился. Вылупился. Но я-то знала, что вызов ученым книгам, поставленным мной в первый ряд книжного шкафа, звучал бы так: Способна ли я выразить непосредственный опыт тела, перемолотого жизнью?
И понимала, что нет.
Я чувствовала себя уязвимой, как никогда прежде. Словно в конце пути. Мне придется сложить оружие, признать поражение. Я думала: теперь-то уж всё. Всё, я старая. Тело разваливается. Оно больше не понесет меня через леса. Нет, я еще пыталась с ним договориться: бедра крепкие, ступни по-прежнему твердые, я бы сказала, даже упрямые, я никогда не видела таких упрямых ступней, способных деформировать любую обувь. Вот спина подкачала. И плечи слабые. Колени никуда не годятся. И ляжки, хотя и прооперированные, все равно уже не те. Разве можно с таким телом шастать по лесу? Нет. А я ведь хотела именно туда. Я не могу говорить ни о чем другом. Только о лесе – вот что у меня в голове, на сердце, на душе. Написать еще одну книгу о нем, о сумрачном и густом лесе.
6
Мне не раз приходилось заниматься починкой своего тела.
Вот я лежу, запеленутая, в саркофаге из зеленого полотна. Анестезиолог, усыпивший меня тогда, когда я писала «Животных», знает меня, он спрашивает: О ком будете думать на этот раз? Их двое, он и ассистент. Они только что запустили мне в вену какую-то жидкость и теперь наблюдают за моим засыпанием, болтая со мной, словно мы сидим в плетеных креслах в саду, в тенечке. Молчание. Я знаю, о ком буду думать, впадая в сон. Но говорить об этом невозможно. Этот взгляд, которому я хотела бы довериться, единственный, способный проникнуть в глубину меня, очень далеко, в глубину моих мыслей, моего мозга, единственный, умирающий от желания, чтобы я тоже узнала его, но увы! Если вглядываться внимательно и пристально, можно спугнуть. Я могу смотреть лишь через полуприкрытые веки.
Но тем утром я знала, что именно ему доверю свой сон, настоящий сон, с закрытыми глазами. Он останется. И я смогу на него положиться.
И я отвечаю анестезиологу, осознавая тем не менее всю необычность иного мира, в который постепенно начинаю погружаться: – О малиновке. Одна такая прилетает к моему окну клевать ореховую крошку, которую я рассыпаю специально для нее. Она знает меня близко. – Мои дети на днях тоже видели ее в саду, отвечает анестезиолог таким естественным тоном, что сразу же становятся осязаемо-реальными все сады, все малиновки и все любови. А ассистент спрашивает: – Только одна? – Нет, чета малиновок. Одинаковые тоненькие клювы, как у всех насекомоядных. Одинаковые оранжевые пятнышки.
И я чувствую, как меня всасывает в недра саркофага.
Разрезали. Промокнули. Заменили. Весь день напролет зашивали тела. Больница безмолвна, вся пронизана мучительным ожиданием.
Где дорога, ведущая в горы? А к Григу? А ко мне?
Дверь открывается.
Свет из коридора проникает в палату, освещает белый силуэт, возвышающийся в сумерках, словно световой меч, он приближается к моей кровати: Я ваша ночная сиделка. Позовите, если что-нибудь понадобится.
Птицам можно доверять, я знала это всегда. Я вижу птицу? Значит, я ей доверяю. Даже самой крошечной. Особенно самой крошечной, ведь она самая волшебная. Мне много раз приходилось доверять птице-крапивнику, ее еще называют орешком, она меньше восьми грамм.
То, что можно доверять медсестрам, я узнала гораздо позже. Мне понравилось наблюдать за медсестрами, как прежде нравилось смотреть на птиц.
Но птицами я ограничиваться не собиралась!
Я не очень-то понимала, где мое место между птицами и медсестрами. Все было как-то нестабильно. Я словно зависла между двумя мирами. И этот другой мир не раз оказывался центром реабилитации. Делать там мне было особенно нечего, разве что какие-то упражнения, так что я целыми днями наблюдала за жизнью вокруг. Скучно не было. Я что-то писала. В какой-то момент я даже стала подозревать, что у меня нет законных оснований там находиться и меня могут обвинить в злоупотреблении: мол, устроила писательскую резиденцию, симулировав несчастный случай. И выгонят.
Там меня окружали медсестры, как прежде – птицы; вокруг порхали стаи разноцветных халатов. Розовый у медсестер. Сиреневый у санитаров. Зеленый у сиделок. Это был совсем новый центр, выстроенный на окраине большого города, куда переместили персонал из прежнего маленького центра, отжившего свой век. Старый центр находился в горах, то есть все эти люди вынуждены были эмигрировать с гор на равнину, как-то приспосабливаться. Их мнения никто не спрашивал. Некоторые казались усталыми и измученными.
Вот та, что приносит мне поднос с завтраком: пожилая, полная, рыжая, благодушная, с красной, как у герани на окне, улыбкой.
А та любит со мной поболтать: К счастью, у меня были водительские права. Она повторяет: К счастью, у меня были права. Пристально смотрит на меня. Взгляд – пропасть. Потом добавляет: Мой муж умер год назад. Голос как из пещеры. Волосы как черный колючий кустарник. Глаза цвета раздавленной ежевики блестят от слез. Как маленький кабанчик в сиреневом халате, она ввалилась в мою палату и стала ее мыть.
А эта молчит, ее синие, невероятно светлые глаза – то ли взгляд слепого, то ли ясновидца – обведены пепельного цвета кругами, темными, как дымка печали.
О проекте
О подписке