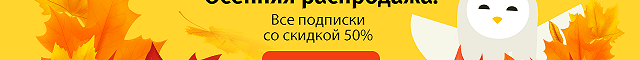
11
Разбудили меня в семь. В ресторане отеля Морианна, уткнувшись в смартфон, сидела за столиком одна перед крошечной чашкой наполовину выпитого кофе. При виде меня она что-то прошептала, я не поняла, она чуть громче повторила, что заказанное накануне такси уже подъехало, и предложила подвезти меня на вокзал. Только надо быстро. Очень быстро. Она встала. Сумка уже была при мне. Ее тоже. Мы уселись позади шофера, который по нашей просьбе, пощелкав клавишами на приборной доске, нашел, на какие платформы прибывают наши поезда, и если не считать смартфона Морианны, без конца подающего сигналы об очередном сообщении, и самой Морианны, делавшей вид, что они очень смешные, все было нормально. Даже пробки. Даже дождь над Лионом. Все нормально, говорил шофер, догадываясь о нашей нарастающей панике по капелькам пара, медленно оседающим на стекле. Вообще-то, мы опаздывали на свои поезда. Не то чтобы это были последние поезда на земле, но все-таки, похоже, он понял наше волнение. Вот и вокзал. Мы побежали. Более того, мы побежали подпрыгивая. Перед глазами мелькало приталенное пальтишко Морианны, темно-синее, с красной каемкой, очаровательное пальтишко, как у романтичного немецкого офицера, и ее туфли на каблуках, я неслась со всей скоростью, на какую была способна, сама себе удивляясь: надо же, я еще могу бежать, как раньше, я и не знала, что тело способно дарить мне такие юные ощущения. Это было что-то. И я бежала, бежала большими прыжками на пружинящих от нетерпения мокасинах, и со мной неслась моя душа, так я быстро бежала, да-да у меня все же имелась душа, пусть даже я чувствую в себе животную сущность. Именно животную. С ножом в кармане. У меня всегда в кармане нож, помимо крючка для клещей, похожего на маленькую козью ножку, и блокнот, не обязательно фирменный, простой блокнотик, ничего особенного, и карандаш, а еще в моих карманах, если поискать, можно было найти маленький осколок лазурного эринита[28], привезенного Григом из Пиренеев, где он долго искал месторождение этого минерала, ведь для синей мандорлы с изображением Христа в церкви Сан-Клементе де Таулл в Каталонии был использован краситель из эринита, добытого в горных реках, как раз рядом. А еще в моих карманах можно было найти флешку, флакончик эфирного масла бессмертника, помятое печенье, старое, с белым налетом, чудесным образом принявшее форму черепа с черными глазницами.
Когда преобладает такой прием, как паратаксис, то есть способ сочетания предложений, при котором никакими формальными признаками не обозначена зависимость одного из них от другого, – нужно сжать зубы.
Скорый поезд на Париж уходил на три минуты позднее моего поезда на Страсбург. Это и в самом деле был последний поезд. Ну, так мне казалось. Последний поезд перед большим перерывом. Может, стихийная забастовка, которая заблокирует всю страну неизвестно на какое время? Или начало социального кризиса, выхода из которого никто не знает? Или начало Конца? Того самого пресловутого Конца? Что бы там ни было, последний скорый поезд катился по равнинам, и мне казалось, что мир за его окнами не просто скрывается с глаз, а исчезает навсегда. Я со страхом подумала о том, что на этот раз в карманах – не смогла побороть искушение – у меня, помимо всего прочего, лежало круглое мыльце и крошечный несессер с набором принадлежностей для шитья в картонной коробочке, которые предусмотрительно положили на край белой мраморной раковины в отеле, невероятно смешные и нелепые, такие маленькие, крошечные, игрушечные, но точно волшебные, ну да, волшебные, и благодаря своей волшебной силе сделавшиеся такими крошечными и игрушечными. А может, на край раковины их положили в шутку?
12
В начале этой истории я, бывало, щипала себя, пытаясь сообразить, где я: фантазия, мечта, вымысел, сон, пробуждение или реальность. И понять это было невозможно. Впрочем, никто больше не мог понять, где находится. Всеобъемлющее ощущение неправдоподобия. Порой нереальности. Нас окружали совершенно нереальные вещи.
Паркинг вокзала в Страсбурге, как всегда, был набит битком, моя машина спокойно стояла на своем месте, приборная доска запорошена пыльцой, подстилка усыпана еловыми иголками, парковочными талонами и придорожной пылью. Даже горы вдалеке спокойно стояли все там же, наполовину скрытые серыми облаками, которые напомнили мне голотурий-трепангов, я взяла курс на них. На дорогах было почти спокойно, и, когда я ехала, мне казалось, что я оставляю за собой весь мир. А люди? Что с ними делать? И я ответила фразой, на первый взгляд бессмысленной: Вы знаете, что человеческое тело вписывается в равносторонний четырехугольник, то есть в квадрат?
Ну пора бы уже, проворчал Григ, который ждал меня, стоя перед домом, по обыкновению, в лохмотьях и в дурном расположении духа, у ног его лежала серая, пепельного цвета тряпочка, всклокоченная, как и он, готовая броситься на меня. Я не поверила своим глазам. Маленькая собачка. Я воскликнула: Йес! И она прыгнула на меня. Она так радовалась, будто мы были подругами детства и вот теперь встретились семьдесят лет спустя. Она радостно кружила вокруг, радостно отбегала и радостно возвращалась, а потом радостно лаяла, а я вместе с ней каталась по траве, шепча ей на ухо, ну вот же, славная моя, значит, ты не убежала.
Григ стоял неподвижно, с упрямым выражением лица, на котором то давнее юношеское бунтарство оставило неизгладимый след, и терпеливо ожидал окончания дурацкого представления, а еще он ждал, когда мои руки освободятся, чтобы обнять и его тоже.
Я поднялась и обняла.
Как никогда раньше.
Почти задушила.
Можно было подумать, что со дня моего отъезда прошло столетие. Я опять изо всех сил сжала Грига, таким он мне показался удрученным, печальным, каким-то перегоревшим, да, перегоревшим, сгорбленным, хрупким, я все обнимала и обнимала его и внезапно вспомнила, как в детстве стиснула в руках несколько щенков одного помета и сжимала их, едва не придушив, но Григу хотелось думать, что у нас одна жизнь, общая, единая непрерывная линия от нашей с ним встречи и, наверное, до смерти, та самая жизнь, в которой я душила его в объятиях, но ему это, кажется, нравилось, жизнь, в которой он меня третировал, высмеивал, но мне это нравилось, и я сжала его еще сильнее.
– Вовремя ты приехала, – повторил Григ, ничего еще не зная. И тогда я рассказала ему о сообщении на смартфон Морианны, о последнем поезде, на который мне удалось сесть. И Григ сказал: – Да, похоже, добром это не кончится. И, отступив на шаг, с тревогой стал меня рассматривать: – У тебя глаза блестят, как будто ты выпила. Осторожнее давай. Ты все-таки слабеешь.
Мы слабели оба. Это было очевидно. Странные старики, давшие приют ребенку. Старичье. Мне нравится это слово, старичье, оно хорошо передает смятение ребенка, а мы все-таки так и остались детьми.
И тогда я спросила Грига: – Скажи, а собака когда вернулась? – Минуты за две до тебя. Наверное, ждала. Я тоже. Ты что-то не торопилась.
Йес, угомонившись, наконец переводила глаза с Грига на меня, следя за разговором из-под завесы длинных серых, болтающихся на ветру прядей. Возле дома всегда было ветрено.
– Мы выбираем собак, похожих на нас, – сказал Григ, перехватив мой взгляд, и я не поняла, серьезно он или шутил.
Застыв в позе сфинкса, вытянув вперед лохматые, толстые, сильные лапы, Йес следила за нами всем своим телом: горящими глазами, настороженными ушами, маленьким черным вздернутым носом, кончиком розового языка, всеми своими упругими мышцами, готовыми сжаться и распрямиться по первому сигналу. Никакого раболепства. Чуткое и бдительное внимание. А в глазах эдакая чертовщинка, как у ребенка-сорванца. Мол, где наша не пропадала? И при этом очень веселая. Нет, правда, веселая. Немножко Гарольд. А я тогда Мод[29]. Отныне мы сообщники. Овчарка, повторил Григ. Этакий сгусток энергии.
Луг, еще покрытый хрупкими васильками, сиреневыми мальвами и последними ромашками, ожившими под вчерашним дождем, шелестел, волновался, переливался разноцветьем.
Йес наблюдала за мной. Она не выносила, когда я исчезала из ее поля зрения. Я сказала ей: Прежде всего, надо тобой заняться. Подожди.
Я вернулась с гребнем с широкими зубцами – остался от Бабу, нашей последней собаки, – бутылкой уксуса и пустой банкой из-под варенья.
Йес вскочила, охваченная беспокойством. Я наклонилась к ней. Крепко обхватила руками маленькое, почти невесомое тельце. Худая собака в пышном войлочном облаке. Я поставила ее на пол. Ее тело содрогалось в такт движениям моего гребня, распутывающего шерсть, он словно вычесывал всю жестокость и несправедливость этого мира, все его пороки и оковы, вычесывал и превращал в маленькие, подернутые дымкой облачка, которые теперь радостно парили над лугом. И я сказала: А теперь послушай меня, тебя надо полечить. Лежать. Она легла на спину, раздвинув лапы, подставив грудь и плоский живот. При свете дня было видно, что покрытую кровоподтеками кожу усеяли клещи, я догадывалась, что так оно будет, но это был какой-то кошмар. Живое пожирало живое.
Я один за другим принялась смачивать клещей уксусом. Некоторые были уже дохлыми, перекушенными собачьими зубами, сморщенными, мерзкими. Но было и много живых, сосавших кровь. Я осторожно просовывала крючок под толстое пузо этого представителя членистоногих, стараясь не потревожить в процессе насыщения. Иначе они могли оставить свой яд, я знаю, я читала. Я обхватывала крючком хоботок, который у клеща впереди, такой зубастый щип, как у рыбы-пилы, и два щупальца по бокам, так называемые хелицеры и педипальпы, глубоко укоренившиеся в теле хозяина, и резко дергала. Клещ, настигнутый в разгар медитации, был пойман. Затем я складывала добычу в банку. Она уже кишела иксодами – с набухшими брюшками, эдакие роскошные переливчато-серые жемчужины, – ну да, когда я оказываюсь перед лицом реальности, не могу не добавить хоть немного лиризма – и другими, еще маленькими, вновь прибывшими, красноватыми, на спинках которых можно было различить оранжевый щиток.
Пленники отчаянно сучили четырьмя парами черных лапок, отстаивая свой карликовый суверенитет, причем каждый говорил мне я есть, так же как ноты песни дрозда, заполняющей собой рассвет, говорят мне я есть или ветви и листва платана с золотыми соцветиями на висящих под листьями кистях в мае говорят мне я есть. Или тело косули, взлетевшее в прыжке над землей, говорит мне я есть. Некоторые из этих я есть принять труднее, чем другие. Некоторые наводят страх, и это естественно. Мы не в раю. Мы на планете Земля, а это, безусловно, интереснее. Мы здесь выше прочих живых существ? Или зависим друг от друга, соединяемся, смешиваемся, в том числе и с самыми мерзкими тошнотворными созданиями, но необходимыми, как и все прочие? Братья мои клещи. Природой можно не только восхищаться. Ужас, который она нам внушает, – тоже важен.
Йес невозмутимо ожидала, когда я наконец закончу.
Я осмотрела ее уши, шею, подмышки, края глаз, каждую складку на животе, все ранки и царапины. Я говорила, еще минутку, Йес. Она не шевелилась, по-прежнему доверчиво лежа на спине. Я принесла миску с теплой водой, кусок мыла, тюбик мази, чистую тряпку. Осторожно смыла засохшую кровь. Вытирала, и меня переполняла ярость.
Потом я сказала: всё.
Она поднялась. Встряхнулась. Радостно подпрыгнула. И вновь вернулась ко мне, уселась в позе сфинкса, вытянув вперед лапы. Похоже, это была бриар, длинношерстая французская овчарка, пастушья собака. От этой породы у нее были лохматые бока, которые даже после гребня оставались лохматыми, черная шелковиста шерсть, длинные висячие уши, широко расставленные глаза, красновато-коричневые с золотистым отливом, наблюдавшие за мной сквозь бахрому густой челки. Кончик носа – черный, влажный, блестящий и великолепные усы, которые я осторожно пригладила. Ну и в довершение портрета: под идеальным треугольником золотисто-каштановой бородки – четкий изгиб безгубого рта. И все эти компоненты – глаза, нос, рот – складывались в строгое, нахмуренное, я бы даже сказала, какое-то упрямое лицо, весьма выразительное, весь облик, казалось, говорил: да, я осознаю свою миссию, это вам не шутки, меня веками приучали пасти овечьи стада, и я научилась это делать так хорошо, что это стало моей «сущностью». И тебя я буду пасти. О тебе тоже буду заботиться. И я почувствовала такую тесную связь между нами, что глаза затуманились от слез. Так значит, Йес, ты пришла сюда для этого, и ты останешься? И я долго шептала ей, ты моя дорогая. И она мне отвечала всем своим телом, да, я знаю.
О проекте
О подписке