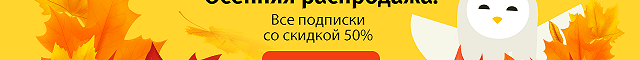
7
Этим вечером я в полной мере ощутила крах собственного тела, и все прожитые годы навалились на меня одновременно. А было их немало. Я услышала, как чей-то голос – не мой – шепчет: nevermore nevermore[19]. Окно было открыто. Кто это? Я осознала, что никогда больше не переплыву, как три года назад, Лак-де-Трюит[20], озеро, сумрачное, как отражающиеся в нем ели, вода его в середине ледяная на всю глубину, она сковывает вас своим холодом, плюс 6, готовым заморозить до смерти, озеро, бросающее вызов бездне, озеро юности.
Еще я осознала, что никогда больше не смогу взбираться в новогоднюю ночь – во всю прыть туда-обратно – на гору, где еще пару лет назад чиркала спичкой, прикрыв обеими ладонями от ветра, обжигающего ухо, я еще подумала, раз ты взяла с собой коробок, надо зажечь сигарету, просто ради самого процесса, да и слово красивое, лучше, чем папироса, – хотя курить я бросила уже давно. В общем, с вершинами покончено. С лесами покончено. Покончено с ранними подъемами: не бегать за оленями, не подставлять лицо колючим кристалликам снега, не встретиться случайно с волком, не сидеть всю ночь в засаде, не бросать вызов охотникам. Слишком поздно. Я едва волочила ноги. Вот уже полгода, как я едва волочила ноги. Для стольких вещей было уже слишком поздно. Вещей, от которых вы могли запыхаться. От которых кровь бросалась в лицо. От которых к глазам подступали слезы. Которые убивали вас на месте. Которые случаются с вами в первый раз, и это невероятно. И в последний раз тоже. Все они вспомнились мне. Я всех их обняла. И со всеми попрощалась, засыпая.
8
Каждое утро при пробуждении мое разбитое тело откидывает направо перину, соединяет обе ноги и – хоп! – на удивление легко свешивает их с кровати, усаживается. Какое-то мгновение сидит неподвижно, плечи опущены, спина сгорблена, руки безвольно болтаются между колен. Внезапно, словно отказываясь быть покорным и униженным, оно выпрямляется, концентрирует всю энергию, словно берет разбег, наклоняется вперед, медленно разгибает колени, медленно опирается на подошвы, медленно выпрямляется, встает.
Оно было странным, тело, истерзанное ночью, которое я будила при помощи холодной воды, потом рука тянулась за баночкой увлажняющего крема. Все эти смутные впечатления, клочки ощущений, обрывки внутренних монологов. Я плохо спала. Моя кожа помята. Баночка почти пуста. Другие тоже – золотистые, перламутровые, ночной крем, дневной. Так, теперь глаза. Какой карандаш для бровей? Сиреневый? Зеленый? Серо-голубой. Теперь светло-коричневый карандаш. Бровей уже нет. И ресниц. Однажды пришлось остановиться, ни щеточка для ресниц, ни тушь больше не понадобились. Брови исчезли. Но не рот. Рот по-прежнему здесь. Пусть этим утром будет тюбик Baby Doll Kiss from Marrakesh[21]. Только бы рука не дрогнула, ну хотя бы не так, как в прошлый раз. Под конец с большим трудом я запустила руки в волосы.
Макияж для меня долгое время был мимолетной прихотью. Зачастую чудачеством. Может, магией, такое тоже со мной случалось. Иногда преступлением. Но в действительности макияж – это протест, революция. – Революция против повседневной жизни[22]? – Именно. Это мое любимое определение.
Удастся мне в этот раз пробежаться по тротуару? Спуститься по ступенькам, не оступившись, проехаться по эскалатору, не потеряв равновесие, быстро перейти дорогу на зеленый свет? Бросив вызов немощи, пройти по бесконечному проспекту с сумкой на плече, этой огромной романтической дорожной сумкой, которую мы с Григом одалживали друг другу, как два монаха единственную пару сандалий, когда одному из нас нужно было сесть на поезд и ехать к любовникам или любовницам, большую сумку, не чемодан на колесиках. Поэтому на всякий случай я приняла таблетку парацетамола. Еще парочку сунула в кармашек бумажника. И поскольку городские улицы – это не живая земля, к которой я привыкла, на ноги я надела свои волшебные ботинки, надеясь на их упругие подошвы. Пружинистые. Гибкие. Наконец натянула парку, простую, прямую, на молнии; и все же очень удобную, с потайными карманами, и даже элегантную, с фалдами.
Я ехала в Лион, куда меня пригласили поговорить о романе «Животные» вместе с двумя другими писателями, тоже авторами книг о животных.
Трехдверная «Тойота RAV4» ехала медленно. Восемнадцать лет, небольшой километраж. Чуть больше ста миль. Никаких путешествий, никакого туризма. Мы с Григом пришли пешком как раз по этой дороге четыре года назад, обнаружив большой луг посреди леса и этот дом. С нами был яркий июньский свет. А еще удача, так нам казалось.
9
Четыре года назад мы, прогуливаясь, набрели на Буа Бани, место, которое, казалось, и впрямь стояло на отшибе, было изгнано за пределы этого мира, подальше от всякой мерзости и злобы. Мы свернули с автострады, въехали в долину, до сих пор нам неведомую, необычной формы, странно вытянутой, скрывающей ее от посторонних взоров. Мы доехали до последней фермы. Огромные сельскохозяйственные угодья. Пастбища. Свернули на хорошо размеченную лесную дорогу, оставили машину на стоянке, дальше ехать было нельзя. Мы дошли пешком до поляны с двумя гигантскими утесами по краям в обрамлении дивной красоты смешанного леса: лиственные деревья, преимущественно дубы и каштаны, хвойные, ели и сосны, которые как раз сейчас прореживали, потому что неправдоподобно длинные стволы беспорядочно громоздились один на другой. То ли гигантская свалка, то ли строительные работы, и все залито потоком света. Итак, имелось три возможности: продолжать путь по лесной дороге, широкой, хорошо размеченной, так сказать, официальной дороге, ведущей вправо, и затем обследовать северный склон. Или пойти по дороге, отмеченной на карте цифрой пять. Пересекая поляну, она соединялась со старым трактом, оставшимся еще с римских времен, облицованным плитами, очень неудобным, петляющим, крутым, с рытвинами и выбоинами. Или можно было выбрать третью дорогу, которая уходила влево, непонятно куда, через сосновый лес с розоватыми стволами, разбросанными тут и там утесами, гигантскими папоротниками и кустами высоких злаков – молинии. Эта таинственная дорога, по которой мы, не сговариваясь, и пошли, привела к маленькому лесному кладбищу, обнесенному низкой стеной, через которую легко было перелезть, здесь мы остановились, восхищенные кладбищенской коллекцией надгробных стел, их было десятка три, не больше, идеально прямые, почти целиком спрятанные под ковром колокольчиков персиколистных, набухших лазурью, словно в воздух выпустили облако воздушных шаров, бледно-голубое, или почти белое, или небесно-голубое, или ярко-синее, целая флотилия готовых к вознесению аэростатов, уже оторвавшихся от земли, видимо, именно поэтому мы и пошли так необдуманно по этой дороге, нас несли они, эти колокольчики, до самого конца, где – вот неожиданность! – невероятный, ослепительный, идеально круглый, как миска, расстилался луг у подножия огромной серой морены, застывшей прямо у его края. Здесь остановилось обрушение. Неизвестно, угрожало ли оно или защищало Буа Бани, странное название этого места мы прочитали на табличке, прибитой гвоздями к сосне.
Но это место следовало еще найти. Пожалуй, единственное, что от него сталось, – странного вида дом. Низкий, приземистый, с деревянными рублеными стенами. Давно заброшенный. При нем имелся огород, следы которого еще можно было различить между гранитными межевыми столбами. Почему всю свою жизнь я так любила все заброшенное, особенно дома? Наткнуться на заброшенный дом – просто мечта. Сразу хотелось туда проникнуть, обследовать лестницы, комнаты, чердак. Стоя пред этим, последним, я в тот же миг представила себе стол черешневого дерева, но когда мы вошли, нам показалось, что этот стол принадлежит людям, которые хотели иметь по крайней мере одиннадцать сынов Божьих. – Почему Божьих? – Интуиция, которая позже подтвердится. Итак, стол три метра в длину. Какой странный стол для нас, никогда не живших в общине, разве что в семье. И я подумала еще о стаканах и о графине, о чем-то таком сверкающем, ну да, там были стаканы, но какие-то тусклые. А еще я представила себе чугунную плиту на трех ножках, а на ней котелок с почерневшим днищем, но на этот раз днище было черным окончательно и бесповоротно. На веки вечные. Безнадежно. И еще я представила шаткие деревянные ступеньки, но спрашивается, кто шатался: ступеньки или мы с Григом? И дверь, через которую виднелась разобранная кровать с неубранными простынями, порыжевшими от времени, еще хранившими отпечатки двух тел, но мы нашли лишь одну изъеденную крысами перину, из которой вылетали перья, стоило мне открыть рот, чтобы выдать, к примеру, ироничный комментарий по поводу унылой атмосферы, понемногу воздействующей на нас. Кому принадлежала эта соломенная шляпа? А это платье в мелкий цветочек, рассыпавшееся в пыль, когда я дотронулась до него?
Это был заброшенный дом, еще более заброшенный, чем все наши предыдущие дома, эдакие дребезги во взвеси гашеной извести. Образчик чего-то вневременного, раскромсанный на куски. И несмотря на это, а может, и благодаря этому, полный жизни, в которой не была еще поставлена финальная точка. Вот почему он так невероятно очаровал. Хотя и не так, как раскинувшийся внизу луг.
Обломок послеледникового периода, о котором уже не помнил капитализм.
Это был цветущий луг. Сочный. Живой. Настоящий. Никакой не заброшенный. И внезапно Земля показалась не такой уж опустошенной. Она могла бы возродиться. Она сможет возродиться. Зацвести вновь. Вот почему уже назавтра мы принялись наводить справки. Собственником Буа Бани был последний потомок семьи, эмигрировавшей в Соединенные Штаты. Там он по сю пору и пребывал. Его никто никогда в глаза не видел. Лугом площадью 7 гектаров и 63 ара завладел некий фермер, член Национальной федерации фермерских союзов, который со временем состарился и умер, потом его сын, который тоже состарился и уступил права на землю молодой фермерше-неофитке и ее брату, они не были членами никаких союзов, но пребывали в авангарде высокогорного земледелия и использовали эти земли вполне рационально и целесообразно. В общем, после множества генеалогических разысканий нам с Григом удалось приобрети 63 ара этого луга. Нас нисколько не заботило дурное предзнаменование, что таилось в названии места: «изгнанный, отверженный». Впрочем, это предзнаменование можно было понимать двояко, ведь Григ сам чувствовал себя «изгнанным», что всегда ему нравилось, он в каком-то смысле даже культивировал эту свою особенность. Изгнанный из преступного мира, говорил он. Одним словом, мы решили сделать еще одну попытку: возродиться где-то в другом месте. Изгнанными и невиновными.
В этом доме было все как надо. Он был обветшалым как надо, но в меру. Не слишком. Ровно настолько, насколько нужно. Он появился в нашей жизни именно в тот момент, когда мне в очередной раз понадобилось переменить обстановку. Отправиться посмотреть, что там за морями и лесами. Найти что-нибудь не такое… вызывающее, не такое бросающееся в глаза. Что-то потайное. Чтобы нам обоим без особого ущерба выбраться из грядущего хаоса, наступление которого все так отчетливо ощутили. А нам просто хотелось ускользнуть. Григ был согласен на все. А я, я хотела вновь испытать бесконечное наслаждение от стремительного бегства. «Сбежать» – вот основа моего писательства. Из книги в книгу я цеплялась за бегство, как за лисий хвост. Déguerpir – префикс dé и старофранцузское guerpir – «покинуть, отказаться», или немецкое werfen – «бросать», или шведское verpa, или готское vairpan, или валлонское diwerpi, или провансальское degurpir. Я, можно сказать, на фундаменте этого слова создала самое себя. Оно вынуждало меня покинуть какое-то место ради другого, столь же невероятного. На этот раз таким местом оказался Буа Бани. Мы поселились здесь следующей весной, коробки с книгами и наша ослица. Сразу начали обустраиваться. Григ устроил себе кабинет под крышей, заставил книгами окно, а в моей комнате, что напротив, окно выходило на луг.
О проекте
О подписке
Другие проекты