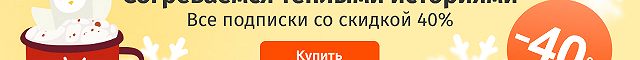
IV
В больнице я любил все. Мне нравилось, как, например, валит пар из распахнутой форточки пищеблока и как несколько прикормившихся возле больницы собак, скулящих и перебирающих от нетерпения лапами, ждут повариху Наталью – веселую, толстую бабу, – которая скоро вынесет миску с объедками.
С интересом я наблюдал, как, наподобие белого флага, треплется сетчатый легкий мешок, что надет на трубу вентиляции прачечной – чтоб в него набивалась летящая вата и нитки. Этот бьющийся белый мешок напоминал корабельный вымпел; и сходство больницы с ковчегом, спасающим множество самых различных людей, – это сходство опять приходило на ум.
Мне даже нравилось, как гудят лифты, как хлопают двери и как мелкой дробью стучат в коридорах колеса каталок: все эти звуки говорили о том, что больница живет и работает, дышит – и я вместе с ней тоже двигаюсь, тоже дышу.
В дежурные ночи, когда я лежал на диване в своем кабинете и слышал сквозь дрему все звуки бессонного ковчега, тогда я испытывал странное чувство: как будто громада больницы находится где-то внутри меня самого. С урчаньем гудели водопроводные трубы – казалось, гудящее это урчанье я слышу внутри своего живота. Скрипят где-то двери или половицы – а мне мерещится, что хрустят мои собственные суставы. По коридору стучат, приближаясь, колеса каталки – как будто во мне все сильнее и громче стучит мое сердце…
Можно было подумать, больница была мной самим – а я, в полудреме лежащий внутри ее чрева, был чем-то таким, что вмещало в себя и больных, и палаты, и пожарные лестницы, и коридоры, и гулкие залы реанимации и оперблока – этот родной и любимый мной мир.
Но больше всего я любил оперировать. Уже в раздевалке, где мы облачались в просторные, теплые – только-только из автоклава – штаны и рубахи, я начинал себя чувствовать лет на десять моложе. Вот странно: при всей любви к чистой добротной одежде – я и в других терпеть не мог затрапеза и неаккуратности – затрепанное белье оперблока мне всегда нравилось. И пусть мы, хирурги, потешно выглядели в этих штопаных, драных, линялых портах и рубахах – ни дать ни взять оборванцы в исподнем, – но мне было приятно напяливать эти лохмотья. Неужели тогда, в мои самые благополучные годы, я уже как бы предчувствовал, что меня ожидает судьба оборванца-бродяги?
Переодевшись, шел мыть руки. Шипела тугая струя, обмылок мелькал в потиравших друг друга ладонях, и серая пена вспухала меж пальцев. Казалось, я мою сейчас не одни только руки – но очищаю и душу. Все суетно-мелкое, лишнее будто смывалось струею воды. Пожалуй, нигде, кроме как в оперблоке, я не бывал так спокоен и собран, никогда так отчетливо не сознавал, что я в мире есть и я миру нужен. И круглое зеркало, что висело над раковиной, подтверждало мое ощущение: в нем отражался спокойный уверенный взгляд человека, которому ясно, зачем он живет.
Подняв руки – с локтей капало, и на подоле рубахи расплывались мокрые пятна, – я быстро входил в операционную залу.
– Добрый день! – бросал я в ее гулко-кафельное пространство.
Мне вразнобой отвечали врачи, санитарки и сестры – и только больной, что лежал на столе обнаженный, с дыхательной трубкой во рту, не мог ничего сказать. Несмотря на обилие здесь и людей, и приборов, и самых разнообразных предметов, от пластмассовых ведер до ярко сияющих ламп, пространство, в котором мы все находились, казалось огромным и гулким – как в храме. Здесь каждый звук, каждый жест становился как будто весомей себя самого.
Меня и облачали, как будто священника в храме. Подавали халат – я вставлял руки в его теплые рукава, – завязывали на затылке тесемки марлевой маски и надевали на руки перчатки. Нужный размер попадался нечасто – пальцы мои были слишком длинны – и я, как на что-то чужое, секунду-другую смотрел на тугие, резиной облитые кисти.
В эти секунды всегда становилось немного не по себе. Казалось: вдруг я не смогу сделать то, чего от меня все ждут, вдруг пошатнется моя репутация блестящего, как выражались больные, хирурга?
Но тревога всегда исчезала, стоило взять в руку скальпель и сделать разрез. Трудно поверить, но именно в эти минуты в душу приходит покой, ради которого, может быть, хирурги так любят операционную. Странное вроде бы дело: откуда нисходит этот покой к тем, кто делает самую беспокойную в мире работу? Но по мере того, как все глубже погружаешься в рану – электрокоагулятор пищит, струйки сизого дыма взвиваются от обугленных тканей, – ты так облегченно поводишь плечами, так шумно вздыхаешь, как будто с тебя сняли ношу, убрали тот груз, что лежал на плечах, и теперь ты спокоен и счастлив. Ты уж не ты, не тот прежний и часто тяжелый себе самому человек, одинокий, стареющий, грузный, – ты вдруг становишься частью чего-то живого, огромного, частью того, что сейчас подхватило тебя и несет в бесконечном и сложном потоке работы. Тебе сейчас нужно одно: не противиться этой таинственной силе, а с ней совпадать – тогда вся операция будет идти так, как нужно, как будто сама по себе. Ты увидишь, что руки твои надсекают, пальпируют, вяжут и шьют уже словно сами собой, а ты лишь удивляешься, глядя на них, до чего же сноровисто, ловко все получается. Вот это и есть настоящее счастье хирурга: когда, кажется, можно совсем отойти от стола – а набравшая ход операция все равно будет длиться. Словно ты уж давно растворился, исчез в этом кафельном гулком пространстве, в сиянии ламп – но продолжают скрипеть лигатуры и звякать за-жимы, ножницы туго хрустят, надсекая рубцы, и вот уже видно, как в ране, такой измочаленно-страшной сначала, ткани словно срастаются, все мало-помалу приходит в порядок, и уже недалек тот момент, когда операция – словно сама по себе – завершится…
V
Не всегда, разумеется, все получалось так гладко. Бывало, сойдет семь потов, пока выделишь какой-нибудь запаянный насмерть желудок – и успеешь не раз проклясть день и час, когда ты пошел в хирургию. То ли сам будешь не в лучшей форме, то ли больной попадется такой неудобный, что все в нем не так, не с руки – порой операция превращается в каторжную, изводящую нервы работу. Пыхтишь, обливаешься потом, орешь на своих ассистентов – а когда сам оперируешь плохо, то и помощники, кажется, больше мешают, чем помогают, – и устаешь в конце концов так, будто все это время ты проработал в кузнице молотобойцем.
Переодевшись, приходишь к себе в кабинет измочаленный, еле живой – а в дверь уже стучат пациенты: «Мы к вам, доктор, на консультацию…»
Но зато в конце дня, когда, наконец, посмотрел всех больных, написал все бумаги, сходил еще раз в реанимацию к тем, кого оперировал – вот тогда можно тихо-спокойно и посидеть в ординаторской. Раньше, еще молодым, я все время куда-то спешил: то в поликлинику на подработку, то за сыном в детсад, то просто домой, чтоб побыть там с Валюшей, да поспать-отдохнуть после бессонных полутора суток дежурства.
А потом спешить стало некуда. Жену схоронил шесть лет назад – диагноз «лейкоз» прозвучал, словно гром среди ясного неба. А сын давно вырос, женился, и Машеньке, внучке, уже было три года. Сын, прямо скажем, пошел не в меня. Он сутками не отходил от компьютера; Сергею было нужно одно: чтоб ему не мешали существовать в виртуальной реальности – то есть в мире, которого нет. Смешно и стыдно сказать, но мне с ним как-то и не о чем стало поговорить: моя хирургия и его компьютеры находились словно на разных планетах.
В свою жену сын был влюблен так же, как и в компьютеры: он был от нее без ума. Стоило при нем произнести слово «процессор», «программа» или «Наташа», как на его полном лице расплывалась улыбка совершенно счастливого человека. Ну да Бог с ним – его, в конце концов, жизнь, его выбор, и не мне решать, как и с кем ему жить. Мои-то собственные отношения с невесткой складывались, мягко говоря, холодновато, так что домой меня не тянуло еще и по этой причине. Я бы, конечно, давно разменял нашу трехкомнатную квартиру и жил бы отдельно, но дом наш был старым, подписанным к сносу, и никаких операций обмена или купли-продажи мы совершить не могли. Терпели и жили, надеялись на расселение – и в этих надеждах прошло уже несколько лет. Я был словно прикован к этой квартире, опостылевшей мне после Валиной смерти, и к чужой для меня семье сына. Если б не Машенька, внучка, мне бы и вовсе не с кем было ни посмеяться, ни поговорить в своем собственном доме.
То ли дело в больнице, с друзьями-коллегами, рядом с которыми прожита целая жизнь. Эти люди мне были ближе родных. Вот, скажем, Кирилл Митрофанович, наш патриарх. Старику было крепко за восемьдесят, но он исправно ходил на работу и даже еще оперировал, причем очень неплохо, в добротно-старинной манере – большие разрезы и редкие швы – в том стиле советской военно-хирургической школы, который сложился у Митрофаныча еще на войне, в медсанбате, да так и остался на целую жизнь.
За те четверть века, что я проработал в больнице, Митрофаныч нисколько не изменился: старик словно был заспиртован. Такой же бугристый и голый череп, такие же кисти тяжелых, с набрякшими венами, рук, и утробный, как будто из-под земли доносящийся голос. Митрофаныч говорил мало, но всегда очень смачно, и многие из его выражений разошлись по больнице в виде присказок и поговорок.
– Ну что, Гриша, – гудел его бас, – не пора ли по стопочке? А то чувствую – силы в упадке, пора влить горючего.
– Отчего же не влить, Кирилл Митрофанович? – отвечал я ему, доставая коньяк. – День отработали, можно и выпить.
Рюмка совсем пропадала в громадной руке старика.
– Ну, побудем живы! – гудел он, опрокидывал коньяк, и кадык крупно дергался на его жилистой шее.
– А вы, молодежь? – обращался я к вечно куда-то спешащим коллегам. – Не составите старикам компанию?
– Да нет, шеф, спасибо, мы за рулем, – отвечали обычно они, второпях одеваясь. – Как-нибудь после, когда будет время.
– То есть когда постареете, – усмехался я, чувствуя, как теплеет в груди после выпитой рюмки. – Что ж, я и сам был такой же: все, помню, куда-то бежал, все пытался себя самого обогнать…
Теперь мы с Митрофанычем, два одиноких вдовца, никуда не спешили. Сидели, то молча задумавшись – со стариком было очень легко и спокойно молчать, – то вели неторопливые разговоры. Уж Митрофанычу было, о чем рассказать: чего стоил один его год на войне, в медсанбате!
– …А в сорок четвертом, под Лидой, тоже был интересный случай. Я тебе, Гриш, не рассказывал? Ну, тогда слушай…
Он садился удобней в продавленном кресле, почесывал свой лоснящийся череп и начинал:
– Прорывается к нам, к медсанбату, немецкая рота… Вокруг бой, пальба, крики – конец, в общем, света. А мы что? Мы оперируем – что нам еще остается? Ребят же не бросишь, которые ранены. Делаем ампутацию – тут врывается в нашу палатку какой-то эсесовский псих с автоматом. Орет дурным матом и дергает, сука, затвором! Укокошил бы всех нас, как пить дать, только «Шмайссер» его, нам на счастье, заело. А у меня как раз, Гриша, в руке ампутационный нож – ну, ты знаешь, длинный такой. Им еще поросят резать удобно…
Старик засмеялся, мотнул головой и так сжал, приподняв, свой громадный кулак, словно в нем и сейчас блестел нож.
– И я немца того в живот – пырь! Он, понятное дело, захрюкал да и завалился… Гриш, налей мне еще – горло сохнет!
Я наливал, старик выпивал, прокашливался и продолжал рассказ:
О проекте
О подписке
Другие проекты