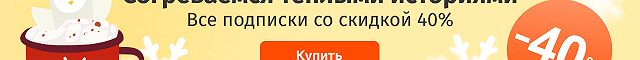
II
О. Яков даже не представлял, как ему будет трудно в монастыре. Он был человеком любви и гнева; а монастырский быт, весь этот сложный людской, непрерывно бурлящий котел, для любви оставлял места мало – зато ежедневно поддерживал гнев, раздражение и недоверие к людям.
Расположенный на том самом «сто первом километре», куда столица выбрасывала отсидевших по тюрьмам людей, монастырь до сих пор подвергался нашествию освободившихся уголовников. Донимала и «чистая» публика. Паломники и экскурсанты, больные и новобрачные, окрестные жители и бизнесмены, у которых не ладилась личная или торговая жизнь, – все стремились в старинную эту обитель. Казалось, что люди везут свои беды, грехи со всех концов света и что стены монастыря, несмотря на могучую их толщину, вот-вот не выдержат напор бесконечных грехов и несчастий. Почти ежедневно случались скандалы и кражи, из гостиницы для паломников то и дело выносили пустые бутылки и даже шприцы (наркоманы тоже нередко наведывались сюда), и о. Яков большую часть своих сил и времени тратил на то, чтоб поддерживать хоть какой-то порядок. «Словно это и не монастырь, – вздыхал он, крестясь, в час вечерних молитв, – а, прости Господи, вшивый рынок какой-то…»
Побыть с самим собою наедине, разобраться в своих мыслях и чувствах не оставалось ни сил, ни времени. Порою казалось: он вовсе и не живет здесь, в монастыре, а видит мелькающий путаный сон. И, как часто бывает во сне, всего тягостней было ощущение бессилия, невозможность что-либо исправить в том хаосе, в котором он вдруг оказался.
Время, когда он служил в храме, было для о. Якова лучшим временем дня. Покой самозабвения опускался тогда на него: то блаженное состояние, когда тебя самого со всеми тревогами и бытовыми заботами уже как бы и нет – а есть гулкий храм, весь наполненный блеском подсвечников, ламп и окладов, полный клубящимся ладанным дымом, есть густой бас диакона, от которого даже колышется пламя ближайших свечей, и есть множество ликов, внимательно-скорбно следящих с икон за неспешным течением службы. Литургия была как река – и о. Яков плыл в ней, забывая себя. Что делать и что говорить, когда выходить на амвон, а когда возвращаться в алтарь, он не думал: все совершалось само по себе, словно и не о. Яков вел службу, а, напротив, сама литургия, сам ее древний порядок и чин направляли и руки, и речи иеромонаха. Он был только малою частью чего-то огромного, древнего – и вот именно эта причастность старинному таинству службы наполняла его самозабвенным, блаженным покоем.
О. Яков хотел бы, чтобы служба совсем не кончалась – чтоб густые басы монастырского хора всегда продолжали гудеть под высокими сводами храма, чтобы вечно был слышен треск тонких свечей и мерцал бы их свет, так волшебно умноженный позолотой иконных окладов, чтобы лился и лился тот сложный, таинственный, древний поток литургии, в котором так радостно плыть…
И четыре, и пять часов долгой службы порой пролетали, как один миг, – а потом, когда служба кончалась и о. Яков, сняв облачение, выходил на крыльцо опустевшего храма, он не сразу осознавал, где же он оказался. Озираясь, он думал: зачем этот двор, эти люди, снующие мимо с озабоченным выражением лиц, к чему эти груды красного кирпича и штабеля сырых досок, и чего, например, хочет вот эта растрепанная старуха, вдруг повалившаяся перед ним на колени?
– Встань, матушка, встань, – растерянно бормотал о. Яков, поднимая рыдающую старуху. – Не меня проси, Бога проси…
Он что-то делал, ходил, говорил – но в душе его долго еще сохранялось недоумение перед этим назойливым суетным миром, который был так непохож на высокий торжественный мир литургии и храма, но в котором ему, о. Якову, опять надо было трудиться и жить.
Иногда было чувство, что он погружается в чан с нечистотами: настолько был резок контраст между чистым восторженным настроением храмовой службы – и той мелко-суетной жизнью, что мутно кипела вокруг.
Вот и сегодня: едва он, отслужив, пришел к себе в келью – за ним прибежали из кухни.
– Отец Яков, идемте скорей – там опять безобразят!
– Что такое?
– Двое урок напились за трапезой, а теперь требуют, чтобы их поселили в гостиницу.
Когда о. Яков, катающий желваки по напрягшимся скулам, быстро вошел в трапезную, пьяных там уже не было.
– Где они?
– Только что вышли, отец Яков, – ответил послушник, гремевший посудой. – Покурить им, видите ли, захотелось…
Те двое, одетые, как попугаи, в цветастые куртки, стояли, пошатываясь и сыто икая, на ступенях Введенского храма и курили. Татуированные перстни синели на их пальцах вперемешку с литыми печатками, рты сверкали золотом фикс, а на оголившейся потной груди одного синело не меньше десятка церковных куполов: по одному на каждый год отсидки. Вот этот-то, с куполами на жирной груди, был особенно мерзок: лысый, огромного роста, с лицом, перечеркнутым шрамом. Он хмельно и насмешливо посмотрел на подошедшего о. Якова.
– Ты, батя, не бзди. – Гигант положил на плечо о. Якову руку. – Мы еще по бутылочке скушаем да пойдем себе баиньки. Есть у вас тут номера поприличнее?
Монах, резко дернув плечом, сбросил тяжелую руку. Пьяный гигант помрачнел.
– Отчего это здесь какие-то нервные все? – спросил он худого, курившего рядом напарника. – Что шестерки на кухне, что этот монашек… Я так не люблю. Люблю, чтоб со мной по-хорошему!
И он, пожевав сигарету, с досадою сплюнул: комок желтой слюны шлепнулся на ступень храма.
Никто не успел понять, что случилось: через мгновение жирный гигант лежал на спине, его ноги дергались, а изо рта текла кровь. О. Яков и сам с недоумением, как на что-то чужое, посмотрел на свой собственный, в кровь разбитый кулак.
Второй уголовник куда-то исчез, а вокруг о. Якова и поверженного гиганта засуетились люди.
– Оттащите его за ворота, – пряча разбитый кулак в подол рясы, приказал о. Яков послушникам. – Пусть там полежит, пока не очухается. И помойте ступени…
Его все сильнее знобило: как будто ярость и напряжение краткого боя достигли своей высшей силы вот только сейчас, когда все было кончено. От высокого чистого настроения службы не осталось следа. С окаменевшим и серым лицом о. Яков пошел к себе в келью, стараясь ни на кого не смотреть. «Что ж за люди-то, Господи? – думал он. – Да и сам-то хорош: распустил кулаки, как мальчишка в уличной драке… Завтра к настоятелю надо пойти исповедаться, чтобы он епитимию наложил – а то служить нельзя будет…»
До самого вечера мучился он отвращением к людям и к себе самому: он был словно отравлен всем тем, что случилось сегодня. «Похоже, я болен…» – вздыхал о. Яков. На глаза вдруг попались тетради, которые он еще утром принес из котельной. «Что это? Ах, да: записки покойного истопника…»
И он раскрыл верхнюю из лежавших на подоконнике четырех тетрадей. Первое, что поразило его и чего не заметил он раньше, – это то, как разгонистый почерк Григория был похож на его собственный. «Надо же, – удивился монах. – Словно я сам все это и написал…» Почерк был неразборчив, но о. Яков легко разбирал строчку за строчкой, как будто читал свое собственное письмо.
Чтение все сильнее его увлекало. Он пододвинул поближе настольную лампу и сел поудобнее. Было чувство, что кто-то находится с ним, о. Яковом, в келье, вместе с ним перелистывает тетрадь – и это незримое чье-то присутствие утешало монаха, уставшего от одиночества.
III
«…Счастье мать, счастье мачеха, счастье бешеный волк…» Так говорила покойная бабка, Матрена Ивановна, и мне почему-то все чаще теперь вспоминаются эти слова. В них вроде нет очевидного значения, но все же сквозит смысл, – тот, который не так просто выразить мыслью и словом.
Так вот и эти записки, которые я для себя неожиданно взялся писать. Очевидного смысла в них вроде и нет – кому нужно знать, как жил бомж, пусть даже бывший хирург? – но мне самому перед смертью, уже недалекой, хочется снова увидеть свою миновавшую жизнь. Увидеть не в том хаотически-путаном виде, в каком ее воскрешают капризные и непослушные воспоминания, – а увидеть изложенной более-менее связно. Ведь нам, людям, нужно не просто прожить свою жизнь от рожденья до смерти, нам еще необходимо и осмыслить ее – осознать, что пройденный нами путь был не случаен и не напрасен.
И, чувствую, надо спешить. Провалы беспамятства, те, что случались и раньше, все учащаются, и мне все трудней отнимать у забвения то, что оно поглощает так жадно и вместе с тем так равнодушно. Пока лето, пока ночи теплы и работа в котельной не слишком обременяет меня, постараюсь усердно, как и подобает монастырскому труднику, писать свою летопись.
Если бы кто-нибудь из моих прежних знакомых повстречался со мною сейчас – ни за что бы меня не узнал. Теперь я похож на скелет, обтянутый желтою кожей, с седой бородой и трясущимися руками: не человек, а выходец с того света. А всего год назад я был доктором, персоной довольно известной в том городе, где я жил, и, уж конечно, мой облик тогда был другим. Я был осанистый, крупный мужик с животом и двумя подбородками, лицо мое было всегда чисто выбрито и благоухало хорошим одеколоном, белый халат всегда был отглажен – сама внешность моя излучала уверенность, бодрость, желание жить. «На вас, Григорий Александрович, только посмотришь – так сразу и сил прибавляется», – бывало, говорили мне пациенты.
Двадцать пять лет – полный рекрутский срок – я отработал хирургом. К сорока стал заведующим отделением, оперировал много и с удовольствием – в общем, вел жизнь успешного доктора, на которого молодые медсестры смотрели влюбленно, а молодые коллеги – ребята, как правило, самолюбиво-ревнивые – всегда признавали за лидера и за неплохого врача.
И вот что интересно: те двадцать пять лет, что я отработал в больнице, сейчас вспоминаются как один всего-навсего день. Как будто я утром совсем молодым человеком вошел в хирургический корпус больницы, провел долгий день в палатах, перевязочных и операционных, а вечером, уже в сумерках, с больничного крыльца утомленно спустился пожилой доктор Днепров. Конечно, так промелькнуть может только счастливая жизнь: только самозабвенье живой, интересной работы позволяет не замечать даже время.
Больница притягивала, словно магнит. Случалось, гуляя с семьей в воскресенье по городу, я испытывал неодолимую тягу зайти в отделение и проведать больных – хоть в этом и не было никакой неотложной нужды. И я говорил жене Вале и сыну Сереже:
– Возвращайтесь домой без меня, а я забегу на работу.
– Сто, дуса неспокойна? – спрашивал, шепелявя, мой маленький сын, повторявший мои же собственные слова.
– Неспокойна, Сереженька, – смеясь, отвечал я ему. – Вот вырастешь, станешь врачом, тоже будешь в свои выходные наведываться в больницу.
– Нет, врачом тогда быть не хочу, – отвечал мой сынок, рассудительный не по годам. – Я хочу лучсе на самолете летать!
И по утрам, когда шел на работу, я всегда чувствовал притяженье больницы. Уж казалось бы: что хорошего ждет меня там, где скопилось такое количество боли и горя, где придется выслушивать бесконечные жалобы, мять животы, отдирать в перевязочных набрякшие кровью повязки и часами потеть за операционным столом? А вот, поди ж ты, я всегда прибавлял шагу, когда видел семиэтажную эту громаду, напоминавшую грузный корабль, что плывет над гудящей машинами улицей, над людьми и домами, над всей городской суетой.
О проекте
О подписке
Другие проекты