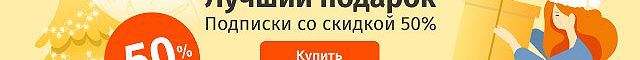
Всему есть предел!.. И долготерпению тоже
Народ закипал…
Хочу здесь процитировать питерскую супердемократическую «Смену»:
«…Пройди по поселку, увидишь – до сих пор люди все худые. В смысле – полных нет…
Прошел, действительно нет. Дети тоже – ещё не Бухенвальд, но вот-вот»[237].
…Зиму 96–97 годов большая часть трудового коллектива уже гуляла в вынужденном отпуске, но без положенных 2/3 заработка. Постепенно в домах отключались холодильники – нечего было в них хранить. С теплыми весенними деньками весь поселок натурально перешел на подножный корм. Что удалось вырастить на своем огороде да собрать в лесу – то в банки закатывали про запас, как чувствовали, что испытания на долгие месяцы. О мясе просто забыли.
Положение было одинаковое для всех: и работающих, – котельная, например, не могла остановиться, велась также переработка макулатуры, и для неработающих, – кого-то «выдергивали» на работу, когда появлялся какой-либо мелкий заказ… В «уведомлении о высвобождении в связи с банкротством», которое получил каждый сотрудник комбината, сказано: «До момента увольнения Вы обязаны выполнять свои служебные обязанности и соблюдать трудовую дисциплину»[238]. Правда, в нём не было ни слова о том, что за «выполнение служебных обязанностей» положено, вообще-то, платить деньги.
Последний раз нормальную зарплату выдавали летом 96-го. Потом – зарплату за октябрь (в январе) и ещё 300 тысяч. На этом всё. Долги по зарплате у многих перевалили за 20 миллионов[239]. («Руководство» объясняло ситуация незамысловато: «Что касается зарплаты работникам, то мы не выдавали её не потому, что куда-то истратили деньги, а по той простой причине, что счёт предприятия заблокирован. Но и при этих условиях мы смогли зимой отапливать квартиры, обеззараживать воду. Мы также обеспечили нормальную деятельность очистных сооружений, вовремя вывозили мусор»[240].
Начальство вместе с профсоюзом нашло выход, – ввели товарный обмен. На руки работникам стали выдавать так называемые «поручения-обязательства». По ним можно «отовариться» в кулинарии – на 600 тысяч в месяц и поесть в столовой на 300 тысяч[241]. И хотя на эти «обязательства» можно было получить лишь чай, дошираковские супчики, да печенье – и, конечно, всё дороже, чем в поселковых магазинах, рабочие и инженеры вынуждены были с подобным соглашаться. А для комбината выгода: из оклада рабочего 6-го разряда в 2 миллиона уже списывалась почти половина. Остальное… обоями. Такое вот «улучшение положения комбината».
В комбинатовскую столовую, где можно поесть «по безналу», народ приходит с бидончиками, банками, приводит детей. Обед на двоих обходится примерно в 30 тысяч, однако это единственная возможность получить хоть что-то. Администрация это понимает и реагирует …довольно странно – на дверях столовой появилось объявление: «Отпускается не более 2 порций второго в одни руки»[242].
Справедливости ради отметим: кормежка «по безналу» изобретение не Бочкарева. Ещё в сентябре 96-го профлидер Лев Ханатаев с гордостью рассказывал: «Денег нет, и мы организовали питание в столовой в счет будущих заработков: поел – тебя записали, то же самое с продуктами. При комбинатовской кулинарии создан пункт по выдаче продуктов: набрал на определенную сумму – тебя опять записали». Журналист отметил тогда, – простые «записанты» жаловались: бывают случаи, «обписывают»[243]
Профлидер гордился, а простые работницы с ужасом вспоминают те кормежки. Евгения Гостевская: «Ни у кого из женщин нашего поселка не изгладятся из памяти те два года при иностранных хозяевах, когда нас просто довели до скотского состояния. Тогда нам совсем прекратили выплачивать деньги, а вместо этого в заводской столовой стали по карточкам выдавать баланду для работников и членов их семей. Такое увидишь разве что в фильмах о рабах в древнем Риме. Представьте себе: нескончаемая километровая очередь стоит в заводскую столовую – все с кастрюльками, с котелками пришли за хозяйской баландой. А её просто есть нельзя. А мы стоим – куда денешься? Бывало, детей приводили в час или два ночи, чтобы накормить ужином. Они плачут: и спать хочется, и есть. Смотреть на них – сердце разрывалось…»[244].
Отсутствие живых денег в поселке создавало весьма характерные для «развитого капитализма» ситуации – товар есть, а купить его не могут. Весной в Советском случилось чрезвычайное происшествие, которое пресса поименовала «своеобразным»: В средине мая было относительно тепло. Вдруг жители домов, расположенных у реки Гороховки, почувствовали очень неприятный залах. Оказалось, что источником зловония стали выброшенные кем-то 50 ящиков корюшки, общим весом около тонны[245]. Надо было принимать срочные меры: запах гнили распространялся по всему поселку.
Что ж в этом «своебразного»? Очень даже характерное явление, описанное в любом учебнике по политэкономии капимтализма.
А чрезвычайных происшествий в Советском и без того хватало. Оно и понятно, – нервы были у всех на пределе. Порой некоторые ЧП могли закончиться непоправимыми последствиями.
Днем 12 февраля на территории ЦБК охрана задержала работника этого предприятия, который был в сильном подпитии. Его отправили в медпункт, тут-то он и отличился: неожиданно для всех вынул боевую гранату Ф-1 и выдернул чеку. Четко сработала охрана комбината и подоспевшие сотрудники Советского отделения милиции: гранату осторожно, из рук в руки, у злоумышленника изъяли, сам он был задержан[246].
Были шуточки и посерьезнее.
29 апреля, в 0 час.30 мин. на ТЭЦ Выборгского ЦБК поступил звонок о том, что заминировано мазутное хозяйство. В это время как раз заканчивалась разгрузка 12 цистерн с мазутом, которые пришли на комбинат. Поиски предмета, который мог таить опасность, успехом не увенчались, хотя милицейские патрули, специалисты из штаба Гражданской обороны и сотрудники охраны комбината, оцепив территорию и эвакуировав рабочих из цехов, шаг за шагом обследовали всё вокруг. Когда наступил рассвет, были проверены также крыши и баки, но ничего обнаружено не было. Тревога не была напрасной: по оценкам специалистов, возможный взрыв мог бы стать настоящей катастрофой[247]. (А через несколько недель на ЦБК ликвидируют пожарную часть. Не странно ли?!).
Экономический кризис не мог не отразиться на кризисе власти …местной. Весной 96-го года депутаты местного Собрания представителей выступили против главы поселковой Администрации Игоря Ходзицкого и добились его отставки. Власть в Советском тогда «временно» возглавил Валентин Юзюк. Был ему тогда 31 год. Приехал с Украины. По специальности – землеустроитель. Зимой 1997 года инициативная группа, в которую входили «представители Выборгского ЦБК, местного отделения Совета ветеранов, жители поселка»[248], выдвинула свою кандидатуру на пост главы. Это был Владимир Сычев, 52-летний руководитель ассоциации «Родники». Кандидат наук Сычев был хорошо известен среди людей, занимающихся экологией (он впервые в России организовал и провел в Выборге научную конференцию по радоновой опасности, а также занимался исследованиями процессов в бухте Радуга). Кроме того, Сычев сохранил неплохие связи с руководством комбината, где он работал мастером и начальником цеха. На недавних губернаторских выборах Владимир Сычев входил в группу поддержки Вадима Густова и числился в поселке его официальным доверенным лицом.
Не будем утомлять читателя всеми деталями событий тех дней. Отметим лишь следующие моменты. Во-первых, на «мини-скандалах» вокруг должности главы администрации «оттачивался» голос местного актива из поселковых общественных организаций – Совета ветеранов, общества инвалидов. Обсуждение кандидатуры главы не могло идти без обсуждения ситуации на ЦБК и, тем более, – без его работников. Они-то и были основной массой населения поселка. «В течение нескольких месяцев, начиная с 4 апреля 1996 года, стоял вопрос об освобождении И. Г. Ходзицкого от должности и назначении нового главы В. В. Сычева, было проведено несколько собраний депутатов, ветеранов, работников ЦБК в разных цехах, а также имелись ходатайства руководства комбината и профсоюза о назначении В. В. Сычева»[249].
Во-вторых, в конфликте вокруг поста исполнительной власти поселка приняли активное участие представители двух ветвей, исполнительной и представительной, более высокого уровня – районного. Собрание состоялось в клубе ЦБК. На нём присутствовало более 200 человек. В поселковых дебатах участвовали представители администрации района и муниципального собрания: В. А. Калинин, Л. А. Лебедева, А. И. Костенко, депутаты М. Д. Носов, С. Б. Рубинович, Е. Ю. Жжонов[250]. Отметим, что именно позиция районной администрации послужила основанием для нагнетания обстановки в январе 97-го года, когда Валерий Калинин, начальник отдела по работе с территориями районной Администрации, сделал заявление, что «главой администрации поселка надо оставить В. Юзюка, так как он не имеет замечании и справляется со своими обязанностями»[251]. В результате «трем депутатам Муниципального собрания от поселка Советский было поручено «изучить вопрос»»[252].
События вокруг должности главы исполнительной власти в Советском оказались, в конечном итоге, предвосхитили аналогичных разборки, начавшиеся в самом Выборге.
Массовое недовольство людей на комбинате проходило в форме митинговщины.
Правда, имели место и индивидуальные протесты. Так, в июне прямо в пустом цеху объявила голодовку 27-летняя Татьяна Дик, начальник смены производства бумаги. История Татьяны ничем не отличается от истории тысяч других работников комбината. Разве только то, что ни родственников, ни огорода у неё в поселке не было – средства к существованию давала только зарплата.
– Дома у меня просто нет ничего съестного, – говорила Татьяна, объясняя свой поступок. – И выхода другого не вижу – я пыталась найти работу в Выборге или в Питере, но, во-первых, у меня здесь жилье, а, во-вторых, меня официально, приказом, вызвали на комбинат.
Голодовка Татьяны Дик никого особенно не удивила. Большинство испытывало абсолютно те же чувства непонимания, злобы и голода. Но Татьяна сознательно пошла на обострение конфликта – ценой собственного здоровья.
И что? Фактически ничего, никто из «большого» начальства с ней даже не разговаривал. Профсоюзный босс, узнав о голодовке, посоветовал Татьяне оформить больничный. А Бочкарев, узнав о её протесте, пообещал выкинуть на улицу, если не перестанет «дурить»[253]…
Митинги работников предприятия не заметить было значительно труднее. Стихийные протесты часто совпадали с «красными» днями календаря, праздничные дни разительно подчеркивали вовсе не праздничные заботы советских тружеников.
Перед 8 марта в поселке Советский митинговали[254]. Толпа, по крайней мере, человек в 200 с плакатами в руках – «Дети хотят есть», «Комбинату достойную жизнь» и т. п., собралась у входа в административный корпус Выборгского ЦБК. В этот раз источник «напряженности» исходил из котельной. Угроза закрыть котельную, прозвучавшая со стороны ее работников (за полгода – ни одного дня простоя, и ни одной получки), в случае, если не будет погашена задолженность по всему предприятию, обрекала Советский на вымерзание.
Обязательно в таких ситуациях перед собравшимися появлялись В. Сметанин, А. Бочкарев и председатель профкома Л. Ханатаев. Что примечательно – все трое начинали с бессмысленного вопроса: «В чем дело?» Потом начиналось промывание мозгов – про американцев, инвесторов и необходимость быть вместе.
– Комбинат был доведен до такого состояния ещё до прихода нового руководства, – объяснял Сметанин. – Денег сейчас просто нет и взять их негде. Когда удается найти заказ, перед дирекцией неизменно встает проблема – потратить деньги на зарплату или закупить на них мазут для котельной. Без топлива встанет и производство, и замерзнет поселок. Каждый день мы с Бочкаревым ездим то в Выборг, то в Петербург, выпрашиваем мазут.
Постепенно страсти утихали, осознание безысходности постепенно брало верх.
Если подкидывалась информация – «радостная новость», что из Выборга пришли «детские» деньги, народ тихо ворчал («Найдин пусть и воровал, но при нем хоть комбинат работал»), но расходился.
Все в голос ругали профсоюзного лидера, слишком лояльного, по мнению рабочих, к руководству. И… с беспокойством слушали Бочкарева: «Совет кредиторов, который сейчас распоряжается судьбой предприятия, вообще ставил вопрос ребром: увольнять всех, ставить охрану с автоматами, закрывать комбинат и ждать, пока кто-нибудь его не купит»[255].
Мозги «вправляли» просто и доходчиво: «В самом деле, если учесть, что кредиторы настаивают на немедленном увольнении работников, а управляющий с директором пытаются сохранить предприятие для инвестора (который тоже, может быть, будет увольнять, но не сейчас, и не всех), присутствие именно Сметанина с Бочкаревым для комбината жизненно важно»[256]. (В. Сметанин: «задолженность по зарплате будет погашена в первую очередь. Причем с индексацией, исходя из банковского процента»).
Или терпите, или закрытие комбината и увольнение всех.
Выбирать приходилось одно из этих двух. Выбрали первое. Из выступления координатора постоянно действующего инициативного совета трудового коллектива комбината Владимира Калинина[257]:
– Комбинат – единственная надежда на существование поселка… На полумеры мы размениваться не согласны!..
В. В. Сметанин: «Я смог убедить конкурсного управляющего не увольнять людей, которые комбинату сейчас совершенно не нужны. Это 2500 человек. Мы оба понимаем, что увольнение – дополнительная социальная проблема и напряженность. Ну, а если все-таки придется кого-то уволить, то постараемся дать ему работу в другом месте в этом же поселке».
А. С. Бочкарев: «У нас есть программа, которая позволит загрузить высвободившуюся рабочую силу»[258].
1 июля забастовал коллектив производства переработки бумаги – единственного работающего подразделения Выборгского ЦБК. Всем остальным бастовать просто не было смысла – цеха и так стояли без работы.
Бумажники требовали выплаты зарплаты, руководил действиями рабочих созданный ими забастовочный комитет. В течение июня комитет пытался добиться от администрации ЦБК рассмотрения претензий, составленных в соответствии с законом РФ «О трудовых спорах» и КЗОТ «О порядке разрешения коллективных трудовых споров». Однако взаимности не добились и тогда решили «бастовать до победною конца»[259].
Катализатором событий стал традиционный День поселка, прошедший 18 июня (в этот день в 1944 году поселок снова стал советским, был освобожден от финской оккупации) и совпавший с восьмидесятилетием со дня рождения Героя Советского Союза летчика Михаила Советского, в честь которого поселок и получил своё название. По многочисленным просьбам ветеранов войны, наконец-то, состоялся перенос памятника М. Советскому в центр поселка, на благоустроенную площадь. Однако добрый и нужный праздник в этом году напоминал «пир во время чумы». Отдав должное организаторам мероприятия, выборгская газета не могла не отметить следующее: «Остается лишь пожалеть, что из-за всё ухудшающегося материального положения число людей, посещающих День поселка, ежегодно сокращается»[260].
«Бунтарей» из цеха ППБ поддержал фактически весь коллектив комбината, а также совет ветеранов, общество инвалидов и женсовет. 3 июля люди в очередной раз вышли на митинг у здания администрации комбината. Было зачитано и принято обращение к губернатору Ленинградской области Вадиму Густову, смысл которого был прост и доходчив: «…Впереди у нас неизвестность и беда… Мы дошли до грани отчаяния! КАК НАМ ЖИТЬ?»[261]
Сценарий «погашения» митинга, как и зимнего, повторился в точности. «Управляющие» А Бочкарев и В. Сметанин умело перевели стрелки на самих же бунтовщиков, заявив, что из-за начавшейся забастовки срывается кредит в 100 миллиардов от «Мосбизнесбанка». Без этого невозможно будет запустить производство и, следовательно, на торгах комбинат уйдет по более низкой цене. Во вранье, надо отдать должное, г-н Бочкарев был горазд. По его словам, забастовка ничего не дает, напротив, усугубляет ситуацию. «О ней узнали банки, намеревавшиеся предоставить комбинату кредиты. Скорее всего, теперь они передумают. Можно только посочувствовать рабочим, поддавшимся на призывы забастовки»[262]. Не отставал во лжи от него и В. Сметанин: «Предприятие наше действительно сегодня нуждается в спокойном производственном и психологическом климате. Забастовки ничего хорошего не дадут. Они только могут усугубить положение комбината, отпугнуть инвесторов»[263].
Страсти в этот раз кипели чуть дольше. На митинге работники производства переработки бумаги отказались прервать забастовку. Однако на следующий день, поразмыслив – фактически на них переложили ответственность за весь комбинат, весь поселок – решили выходить на работу. Но наказание за бунт последовало сразу: на следующий день после митинга в поселке отключили горячую воду[264].
События июля 1997 года показали, что «сопротивление» начинает принимать организованные формы. Это не могло не вызвать почти что злобной реакции со стороны А. Бочкарева и В. Сметанина.
В. В. Сметанин: «Я понимаю, что многие наши люди озлоблены. Ведь им не выдают зарплату длительный период времени, а семью надо кормить. Но нельзя поступать подло, обманывать людей, призывать к забастовкам. Надо слушать тех, кто действительно болеет за комбинат и знает, как его сохранить. Давайте спокойно обсудим, что к чему»[265].
Директора раздражало то обстоятельство, что он с А. Бочкаревым с каждым днем оказывался во все большей изоляции. Они с управляющим из кожи лезут, ведут разъяснительную работу, «регулярно проводим встречи с коллективом, а также конференции, собрания. Среднее же звено управлением практически не занимается. Это очень плохо»[266]. Как-то, видно, не укладывалось у него в голове, что «сытый голодного не разумеет».
В результате г-н Сметанин срывается на прямые оскорбления в адрес бывших коллег по инженерно-техническому корпусу: «На технологичном предприятии должны работать исключительно грамотные специалисты. Забастовка в июле показала, что уровень среднего звена предприятия очень низок во всех отношениях. Не хочу здесь употреблять резких выражений, но вынужден: уровень знаний некоторых специалистов можно сравнить с уровнем пещерных людей. Не по уму, конечно, а по уровню знаний того же менеджмента. Они даже не представляют, как надо управлять людьми на вверенных им участках производства, что нужно сделать, чтобы вовремя снять возникшее социальное напряжение. Вместо этого возмущаются со всеми и не пытаются изменить ситуацию к лучшему»[267].
Александра Сергеевича Бочкарева больше раздражала «небольшая группа работающих на комбинате пенсионеров», которая говорит и пишет в инстанции: «Возьмите нас в государственное лоно». У конкурсного управляющего более крепкие нервы, он без истерик заявляет довольно твердо: «Да не будет больше этого никогда! Назад дороги нет»[268]. Господин Бочкарев – твердый «рыночник», его с правильного пути не собьешь.
«Товарищ» Сметанин иногда, захлебываясь в демагогическом раже, переходит на страстные «социалистические» призывы: «Мы, все вместе, сумели поддержать жизнь производства, и все зависит теперь от того, сможем ли мы остаться единым коллективом»[269]. Мы сами должны уметь работать и зарабатывать даже в таких условиях, что складываются сегодня. Быть настоящими хозяевами, нести ответственность за свои действия или и бездействие тоже… Очень многое все-таки зависит и от коллектива. Если он будет сплоченным, здоровым во всех отношениях, технически грамотным, то непременно обретет хорошего хозяина. В то же время не следует забывать, что настоящими хозяевами предприятия всегда остаются те, кто на нём трудится»[270].
Что было у Славы Сметанина по научному коммунизму в высшей школе!? Рыночник А. Бочкарев поправляет своего подельщика: «…«никакой «добрый дядя», будь он американец, француз или ещё кто-то, не даст нам денег просто так, ради наших интересов»[271].
Пока все заканчивалось мирно. Однако, слова словами, а народ закипал. Митинговали, но уже… «кое-кто предлагал и стекла в управлении побить»[272].
О проекте
О подписке
Другие проекты