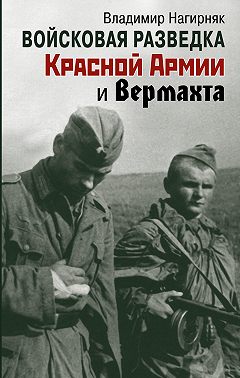После описания злоключений наших разведчиков на Карельском Перешейке решил более адресно разобраться в проблематике ведении тактической разведки во время Великой Отечественной и в этом мне помогла давно откладываемая книга Владимира Нагирняка, старого знакомого по военно-историческому обществу, исследователю подводной войны, позже переключившегося на изучение разведки сторон во время ВОВ. Данная книга по-большему счету составлена из статей, некогда выходивших на портале WarSpot.ru, уже давно отбывшим свой дозор и доступным на web.archive.org по ссылке. Лишнее доказательство, что мир интернет-страницы хрупок и недолговечен, а бумага почти вечная и способна хранить. Соответственно, книга немного мозаична, так как составлена из отдельных и несвязанных статей на тему конкретных боевых примеров действий разведотрядов и противодействия вражеским поискам. Вместе с тем, видимо, это единственное известное мне постсоветское исследование на тему, по крайней мере ничего подобного в моей богатой библиотеке просто нет. Как правило, истории из разведки - это мемуары в ней служивших, Владимир же подошел с научной скрупулёзностью, сопоставляя донесения сторон о том или ином разведпоиске, где сохранились документы. Забегая вперед, можно сказать, что каждое удачное действие разведок, по-крайней мере с советской стороны, порождало шлейф документов: донесений, наградных, выводов комиссий по разбору и так далее. Все потому, что захват советских бойцов немецкими разведчиками (если вдруг немцы не получали перебежчиков) считался за серьезное ЧП как минимум на армейском масштабе и порождал всякие комиссии из вышестоящих штабов, вплоть до уровня Василевского. А долгий период неудач нашей разведки порождал те же самые разборки свыше, и наоборот, обилие наград (вплоть до ордена Ленина за взятого живым офицера) при удачном поиске.
Требование постоянно изучать противостоящего противника, особенно в моменты затишья на фронте, было общим всю войну, но видимо именно разведка понуждала постоянно командование на уровне армий дергать подчиненные дивизии и полки, потому что без традиционных в русской управленческой модели нагоняев, именно разведка начинала проявлять максимальную лень, даже просто по наблюдению за противником. И не удивительно, это была самая опасная работа для пехотинца времен Великой Отечественной, да и сейчас тоже, ведь иногда платили десятками жизней за одного-единственного пленного. В разведку шли добровольцами, разведка имела право первой выбирать себе лучших людей из пополнения, разведку берегли и в общевойсковой бой посылали, когда больше выбора не оставалось, разведку награждали и ругали больше всего. Выражение "я бы с ним в разведку не пошел" появилось не на пустом месте. На уровне высших инстанций ключевые документы и директивы появлялись при накоплении опыта в 1942 - начале 1943-го годов, но вместе с тем сам опыт людей на земле продолжал оставаться определяющим для успехов поисков, что в 1941-м, что в 45-м. Судя по книге, в середине войны произошло четкое разделение отдельно подготовляемых отрядов до общевойсковой разведки боем с попытками взять пленных помимо вскрытия конфигурации обороны и огневой системы противника, и собственно разведывательных отрядов на тактическом уровне, использующих по-возможности тихие методы и прибегающие к стрельбе в момент врывания во вражеские траншеи. Тут все сильно зависело от фантазии, опыта и возможностей стороны, иногда на действия одной-единственной роты разведчиков в 40-50 человек работали все огневые средства на уровне полка - отвлечь огнем от участка, подавить заработавшие орудия немцев, оконтурить участок поисков. Сами роты начали делиться на подгруппы - разграждения, прикрытия, захвата с заранее распределенными ролями: саперы снимают проволоку и разминируют участок, прикрывающие отсекают возможную погоню, одна-две группы захвата атакуют намеченную цель: пехотинцев в траншеях, часовых, вражеский дот или позицию пулеметчиков, хватают живым одного-двух вражеских пехотинцев и отходят с ним к своим. Наибольшие потери, обычно, как раз шли на отходе, когда уже просыпалась вся вражеская оборона. Наибольшие сложности вызывал подход к вражеским позициям, закрытым рядами проволоки и заминированным. В ход шли и подкопы вперед, и психологические методы вроде вкопанных перед немецкими окопами ФОГов, чтобы заставить в ужасе залечь боевое охранение, и нарочные атаки на соседних участках. Бывало, даже, ради одного языка на танках атаковали, ради одной цели набор методов был внушителен. Все примеры в книге очень разнообразны именно из-за разных условий местности, обороны и участников.
Исходя из прочитанного, понимаешь, что во второй половине 1942-го советская разведка в условиях глухой позиционной обороны финнов еще накапливала опыт ведения разведки на местности, но ей не хватало как слаженности в действиях, так и простого терпения, если ежедневно теребить финских часовых, то противник постоянно будет настороже, а лучше несколько усыпить его бдительность, параллельно наблюдая за финской обороной и выбирая потенциальную цель для атаки. А не как просто попытаться преодолеть финские заграждения, а потом как получится. Как итого, взятие за полгода на всем карельском фронте единственного живого языка, за которого заплатили жизнями десятки, если не сотни наших разведчиков, было очень страшной ценой с позиции наших дней.