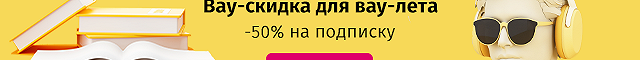
Нюэнен. Антверпен «Живопись – это наш дом»
Нюэнен
ок. 7 декабря 1883 – ок. 14 ноября 1885
К окончанию осени 1883 года Винсент, разочаровавшись в жизни в Дренте, а также, по всей видимости, встревоженный намеком Тео на нестабильность финансового положения последнего, вновь отправляется искать прибежища в доме родителей, к тому моменту снова сменивших место жительства и перебравшихся в Нюэнен, близ Эйндховена. 5 декабря 1883 года Винсент переступил порог родительского дома, где он проведет почти два года. Здесь, в сельской местности, он планирует совершенствоваться в изображении крестьян и рабочих. Первыми его внимание привлекают ткачи, словно запертые в клетках своих хитроумных станков. Когда погода не позволяет работать на улице, Винсент работает над многочисленными натюрмортами. Он продолжает упорно совершенствовать навыки живописца, не оставляя также и рисования. Его новая цель – начать создавать работы на продажу, которые он мог бы посылать Тео в обмен на финансовую помощь.
Одним из его постоянных адресатов и близких друзей остается молодой художник Антон ван Раппард, с которым они вместе занимаются живописью. В то же время Винсент дает уроки местному художнику-любителю. С мая 1884 года он арендует просторную студию.
В письмах этого периода упоминается имя Марго Бегеманн, дочери соседей, с которой Винсент вступает в отношения и некоторое время даже планирует заключить брак. Однако затем постепенно отказывается от этой мысли, возможно из-за яростного противодействия обеих семей. Марго, по-видимому обладавшая не вполне стабильной психикой, предпринимает попытку самоубийства. Отношения с родными становятся все более напряженными. В конце марта внезапно умирает отец, пастор Теодорус Ван Гог, и Винсент после ссоры с сестрой Анной перебирается жить из родительского дома в мастерскую.
В Нюэнене художник создает огромное количество рисунков и живописных набросков – крестьян за работой, эскизов крестьянок в чепцах и пр. Его главным свершением оказывается живописное полотно «Едоки картофеля».
В письмах этого периода доминировавшую прежде религиозную тему вытесняют рассуждения о художниках, искусстве и теории цвета, а наиболее цитируемыми авторами становятся Феликс Бракемон, Теофиль Сильвестр, Эдмон де Гонкур, Альфред Сансье, Жан Жигу, Шарль Блан и Виллем Бюргер (псевдоним Теофиля Торе).
410 (345). Тео Ван Гогу. Нюэнен, пятница, 7 декабря 1883, или около этой даты
Дорогой Тео,
после того как я написал тебе вчера вечером, Тео, я полночи пролежал без сна.
Я до глубины души опечален тем, что, хотя по возвращении после двух лет отсутствия меня приняли дома очень ласково и сердечно, в сущности, ничто, ничто, ничто из того, что я в отчаянии должен назвать ослеплением и глупостью, когда речь заходит о понимании обстоятельств. Все шло очень хорошо до того момента, когда папа – не только в гневе, но и потому, что «он устал от этого», – отказал мне от дома. А тогда нужно было понять, что это очень важно для моего успеха или неуспеха, и мне стало в десять раз труднее – почти невыносимо.
Если бы тогда я не почувствовал того же, что чувствую теперь, – что, несмотря на все благие намерения, несмотря на радушный прием, несмотря на все, что угодно, в папе есть какая-то железная твердость и ледяная холодность, нечто ранящее, как сухой песок, стекло или жесть, – несмотря на всю его внешнюю мягкость; если бы тогда, говорю, я уже не чувствовал этого, как и теперь, я не был бы так оскорблен. Теперь я снова испытываю почти невыносимую нерешительность и внутреннюю борьбу.
Наверное, ты понимаешь, что я не стал бы писать так, как пишу, – по собственному побуждению приехав сюда, совладав с собственной гордостью, – если бы в самом деле не произошло то, что возмутило меня.
Если бы теперь я увидел хоть какую-то ГОТОВНОСТЬ сделать так, как поступили Раппарды, достигнув лучших результатов, и так, как мы начинали здесь, тоже с хорошими результатами, если бы теперь я увидел, что папа тоже понял, что не должен был выставлять меня за дверь, я был бы спокоен за свое будущее.
Но ничего, ничего из этого. Ни тогда, ни сейчас в папе не было и нет ни следа, ни намека, ни тени сомнения в том, правильно ли он тогда поступил.
Папе, в отличие от тебя, меня, любого, кто человечен, незнакомо раскаяние. Папа верит в собственную праведность, тогда как ты, я и другие человечные люди проникнуты ощущением, что мы состоим из ошибок и напрасных усилий.
Мне жаль таких людей, как папа, я не могу держать на них зла в своем сердце, потому что считаю их несчастнее меня самого. Почему я считаю, что они несчастнее меня? Потому что даже то хорошее, что в них есть, они применяют неправильно, и оно действует во зло, потому что свет, который в них есть, черен, и вокруг них распространяется темнота, мрак. Их сердечный прием приводит меня в отчаяние, их примирение без осознания ошибки для меня хуже – если это вообще возможно – самой ошибки.
Вместо готовности понимать и, следовательно, с определенным рвением способствовать моему и, косвенно, своему благополучию я во всем чувствую колебания и нерешительность, которые парализуют мое желание и мою энергию, как свинцовая атмосфера.
Мой мужской разум подсказывает, что я должен считать нашу с папой глубочайшую непримиримость роковой неизбежностью. Мое сочувствие и к папе, и к самому себе говорит мне: «Непримиримы? Не может быть!», до самой бесконечности существует возможность, нужно верить в возможность окончательного примирения. Но это последнее – почему оно, к сожалению, лишь «иллюзия», по всей видимости?
Ты считаешь, что я слишком тяжело воспринимаю все это? Наша жизнь – жуткая реальность, и мы сами идем в бесконечность, которая есть – есть, – а наше восприятие, легче оно или тяжелее, никак не влияет на суть вещей.
Так я думаю об этом, например, ночью, когда лежу без сна, так я думаю об этом во время вечерней бури над пустошью, в печальных сумерках.
Возможно, днем, в повседневной жизни, я иногда выгляжу бесчувственным, как кабан, и легко могу понять, что люди считают меня грубым. Когда я был моложе, я гораздо чаще, чем сейчас, думал, что это происходит из-за случайностей, или мелочей, или недоразумений, которые безосновательны. Но с возрастом я все чаще отказываюсь от этого мнения и вижу более глубокие причины. Жизнь – тоже «странная штука», брат.
Ты, наверное, видишь, в каком потрясении я пишу эти письма: то я думаю, что это может быть, то – что этого не может быть. Мне ясно одно: дело идет не гладко, как я говорил, и нет никакой «готовности». Я решил пойти к Раппарду и сказать ему, что и сам предпочел бы жить дома, но, несмотря на все возможные преимущества этого, остается непонимание с папой, которое я, к сожалению, начинаю считать непоправимым и которое делает меня апатичным и бессильным.
Вчера вечером было решено, что я на какое-то время останусь здесь, а на следующее утро, несмотря ни на что, – все сначала – давай подумаем об этом еще раз. Ну да, утро вечера мудренее, подумать!!! Как будто не было ДВУХ ЛЕТ, чтобы об этом подумать, когда НУЖНО БЫЛО подумать об этом как о чем-то само собой разумеющемся, как о чем-то естественном.
Два года, для меня – ежедневной тревоги, для них – обычной жизни, будто ничего не произошло и не могло бы произойти, на них не давило это бремя. Ты говоришь, они этого не выражают, хоть и чувствуют. НЕ ВЕРЮ. Я и сам когда-то так думал, но тут что-то не так.
Как ЧУВСТВУЕШЬ, ТАК и поступаешь. Наши ПОСТУПКИ, наши скоропалительные желания или наши колебания – нас узнают по ним, а не по тому, что мы говорим устами своими – ласково или неласково. Добрые намерения, мнения, вообще-то, меньше, чем ничто.
Можешь думать обо мне что угодно, Тео, но говорю тебе: это не мое воображение, говорю тебе: папа не хочет.
Сейчас я вижу то, что видел тогда, тогда я откровенно говорил с папой, сейчас я, во всяком случае, говорю, как идет дело, опять-таки с ПАПОЙ, который НЕ хочет, который делает это НЕВОЗМОЖНЫМ. Чертовски досадно, брат: Раппарды поступили разумно, а тут!!!!!! Что бы ты ни сделал и ни делал сейчас, это будет на 3/4 напрасно из-за них. Скверно, брат. Жму руку.
Всегда твойВинсент
Меня не волнует радушный или нерадушный прием, меня огорчает, что они не сожалеют о сделанном ими тогда. Они думают, что НИЧЕГО тогда НЕ СДЕЛАЛИ, и это для меня уже слишком.
413 (346). Тео Ван Гогу. Нюэнен, суббота, 15 декабря 1883, или около этой даты
Дорогой брат,
я чувствую, как папа и мама инстинктивно (не говорю «сознательно») думают обо мне.
Представление о том, чтобы взять меня в дом, подобно тому, как если бы в доме появился большой лохматый пес. Он будет входить в комнату с мокрыми лапами, и потом, он же такой лохматый. Он будет путаться у всех под ногами. И он так громко лает.
Грязное животное, короче говоря.
Пусть так, но у этого животного есть человеческая история и, хоть это и пес, человеческая душа, притом чувствительная настолько, чтобы чувствовать, что́ о нем думают, на что обычная собака не способна.
И я, соглашаясь с тем, что я вроде пса, принимаю их такими, каковы они есть.
Этот дом также слишком хорош для меня, и папа, и мама, и вся семья чрезмерно милы (однако при этом не испытывают чувств), и – и – это пасторы, множество пасторов. Значит, пес понимает, что, если бы его оставили, ему пришлось бы слишком много вынести, слишком много вытерпеть «В ЭТОМ ДОМЕ», и он будет подыскивать себе конуру где-нибудь в другом месте.
Вообще-то, пес когда-то был папиным сыном, и папа сам слишком часто оставлял его на улице, где он неизбежно становился грубее, но поскольку папа уже много лет назад забыл об этом и, вообще-то, никогда глубоко не задумывался о том, что значит связь между отцом и сыном, то нечего об этом и говорить.
Потом, пес мог бы и укусить, если бы взбесился, тогда должен был бы прийти жандарм, чтобы его пристрелить. Ну что ж – да, все это правда, совершенно точно.
С другой стороны, собаки бывают сторожами. Но это лишнее, говорят, сейчас мир и нет никакой опасности, все хорошо. Значит, я промолчу.
Пес сожалеет только о том, что не держался подальше, потому что даже на пустоши было не так одиноко, как в этом доме, несмотря на все радушие. Пес зашел из слабости, и я надеюсь, что о ней забудут, а он впредь постарается не допускать такого.
Пока я был здесь, у меня не было никаких расходов и я дважды получил от тебя деньги, поэтому сам оплатил поездку и заплатил за одежду, которую купил папа – моя была недостаточно хороша, – а кроме того, выплатил 25 гульденов другу Раппарду.
Думаю, тебя это порадует, иначе вышло бы некрасиво.
Дорогой Тео,
приложенное – это письмо, которое я уже писал, когда получил твое. И я хочу ответить на него, внимательно прочитав, что́ ты пишешь. Для начала, я считаю благородным с твоей стороны, что ты, полагая, что я обременяю папу, принимаешь его сторону и делаешь мне порядочный выговор.
Полагаю, это то, что я в тебе ценю, хотя ты вступаешь в борьбу с тем, кто не враг ни тебе, ни папе, но кто, тем не менее, ставит перед папой и перед тобой серьезные вопросы. Говоря тебе, что говорю я, испытывая такое и спрашивая, почему это так.
Кроме того, во многих отношениях твои ответы на разные места в моем письме показывают мне те стороны вопросов, которые касаются и меня самого. Твои сомнения – отчасти и мои сомнения, но не полностью. Поэтому я снова вижу в них твою добрую волю, а также твою склонность к примирению и миру, в чем я, собственно, не сомневаюсь. Но, брат, в ответ на твои намеки я тоже мог бы представить очень много сомнений, только я думаю, что это был бы длинный путь, а есть более короткий.
Склонность к миру и примирению есть и у папы, и у тебя, и у меня. И все же, кажется, мы не можем помириться. Теперь я считаю, что камень преткновения – я сам, и поэтому я должен попытаться отыскать что-то, чтобы впредь не «обременять» ни тебя, ни папу.
Теперь я готов сделать так, чтобы папе и маме было как можно удобнее, как можно спокойнее.
Значит, ты тоже считаешь, что именно я обременяю папу и что я малодушен. Раз так – ради папы и тебя я постараюсь держать все в себе. Кроме того, я не стану больше навещать папу и буду придерживаться своего предложения (ради взаимной свободы мыслей и также ради того, чтобы не ОБРЕМЕНЯТЬ тебя: я боюсь, что ты невольно начинаешь так считать); если ты его примешь, к марту нашей договоренности относительно денег настанет конец.
Я оставляю какой-то срок для порядка, чтобы у меня осталось время на шаги, которые лишь с малой вероятностью приведут к успеху, но которые мне, по совести, нельзя откладывать в сложившихся обстоятельствах.
Ты должен воспринять это спокойно и воспринять по-доброму, брат, я же вовсе не ставлю тебе ультиматума. Но если наши чувства уже слишком сильно различаются, ну что же – мы не должны заставлять себя делать вид, будто все в порядке. Разве не так думаешь и ты, до некоторой степени?
Ты же знаешь, не так ли: я считаю, что ты спас мне жизнь, этого я НИКОГДА не забуду, я ведь не только твой брат и твой друг, даже после того, как мы положим конец отношениям, которые, боюсь, вызвали бы ложное положение; я обязан вечно хранить преданность тебе за то, что ты делал в то время, протягивая мне руку и упорно помогая.
Можно отдать деньги, но как воздать за доброту, подобную твоей?
Поэтому позволь и мне это сделать – только я разочарован тем, что примирение до сих пор не состоялось – и я желал бы, чтобы это еще было возможно, но вы, люди, меня не понимаете и, боюсь, никогда не поймете. Если сможешь, пришли мне обычное письмо с обратной почтой, тогда мне не придется просить у папы, когда я буду уходить, а это нужно сделать как можно скорее.
23,80 гульдена от 1 дек. полностью отдал папе
(возмещение одолженных 14 гульденов, за башмаки и брюки вместе 9 гульденов)
,, 25,, 10,,,,,, Раппарду
У меня в кармане остались еще четвертак и несколько центов. Вот счет, который будет понятен тебе, если ты будешь также знать, что за жилье в Дренте, снятое на долгое время, я уплатил из денег за 20 ноября, которые пришли 1 декабря из-за какой-то заминки, позже улаженной, а из 14 гульденов (которые я одолжил у папы и с тех пор отдал) я оплатил свою поездку и т. д.
Отсюда я поеду к Раппарду.
А от Раппарда, может быть, к Мауве. Стало быть, давай постараемся спокойно привести все в порядок.
В моем откровенно высказанном мнении о папе слишком много такого, что я не могу взять обратно в нынешних обстоятельствах. Я ценю твои возражения, но многие из них не могу считать убедительными, о других я и сам уже думал, хотя написал то, что написал.
Свои чувства я излил в сильных выражениях, и они, естественно, изменяются благодаря признанию всего хорошего в папе, эти изменения, конечно, значительны.
Позволь сказать тебе: я не знал никого, кто в 30 лет был бы «мальчиком», особенно если он за эти 30 лет испытал больше любого другого. Тем не менее, если хочешь, считай мои слова словами мальчика.
Я не несу ответственности за твое восприятие моих слов, не так ли? Это твое дело.
Что касается папы, то, как только мы расстанемся, я буду волен выбросить из головы все, что он обо мне думает.
Возможно, политически верно молчать о своих чувствах, однако мне всегда казалось, что художник обязан прежде всего быть искренним: понимают ли люди, что я говорю, правильно или неправильно они меня оценивают – как ты сам мне когда-то сказал, от этого для меня ничего не прибудет и не убудет.
Что ж, брат, знай: несмотря на любые расхождения, я – может быть, гораздо больше, чем ты знаешь или чувствуешь, – остаюсь твоим другом и даже другом папы. Жму руку.
Всегда твойВинсент
Во всяком случае, я не враг ни папе, ни тебе и никогда не стану им.
Написав вложенное письмо, я снова обдумал твои замечания и снова поговорил с папой. Я твердо стою на своем решении не оставаться здесь, независимо от того, как его воспримут и что из этого выйдет, однако тогда разговор принял другой оборот, потому что я сказал: я тут уже две недели, но чувствую, что не продвинулся дальше, чем за первые полчаса; если бы мы лучше понимали друг друга, то уже во всем разобрались бы и все уладили; я не могу терять времени и должен решить.
Дверь должна быть либо открыта, либо закрыта. Середины для меня нет, да она и невозможна. Теперь дело закончилось тем, что та комнатенка в доме, где сейчас стоит каток для белья, будет отдана мне и послужит чуланом для всякой всячины, а также, при благоприятных обстоятельствах, мастерской. И тем, что эту комнату принялись освобождать, хотя сначала это не имелось в виду и дело еще не решено.
О проекте
О подписке




