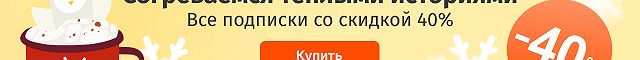
Глава 2
Когда пришел лихорадочный август, жители Салоников начали тосковать по теплому маю. Сейчас было сорок градусов в тени, и люди закрывали окна и ставни, чтобы ужасающая жара не проникала в дом.
Ветерок какой-никакой веял, но не приносил облегчения: западный вардарис обдавал город своими горячими порывами, покрывая все в доме слоями тонкой темной пыли. В самое жаркое время дня улицы пустели, и приезжий путешественник мог вообразить, будто эти дома заброшены. В них было тихо: люди лежали в темноте, дышали неглубоко и неслышно, стараясь меньше обонять зловоние.
И воздух, и море были одинаково тяжелыми и неподвижными. Когда дети ныряли, волны зыби расходились на сто метров по бухте. А когда вылезали, то тотчас же обсыхали, и на коже оставался только едкий налет соли. Ночью мало что менялось: воздух был по-прежнему неподвижен, как и стрелка барометра.
Константинос Комнинос задержался с возвращением из Турции, однако к концу месяца все же прибыл домой. К этому времени Ольге уже казалось, что ее беременность длится целую вечность. Ее тонкие лодыжки отекли, а когда-то изящная грудь так разбухла, что не умещалась ни в одно платье, даже сшитое специально с расчетом на беременность. Константинос отговорил жену шить что-то новое в ее положении, и она ходила в просторной белой ночной сорочке из хлопка, достаточно свободной, даже если бы за последние недели беременности Ольга еще раздалась.
Через несколько дней после возвращения Константинос перебрался в отдельную спальню.
– Тебе места не хватает, – сказал он Ольге. – Будет неудобно, если я полкровати займу.
Ольга не возражала. Каждая ночь проходила все более беспокойно, и чаще всего ей удавалось поспать не больше часа. Она подолгу лежала на спине в темноте, смотрела в черную пустоту спальни с закрытыми ставнями и чувствовала, как сильно толкается ребенок в животе. Толчки были настойчивыми и регулярными. Иногда казалось, что ребенок двигает руками и ногами разом, и в Ольгином воображении рисовалась картинка, какой он будет – сильный, непоседливый, энергичный. Она не допускала даже мысли о том, что ребенок может оказаться девочкой. В этом случае от Константиноса можно было ждать по меньшей мере разочарования, если не хуже. Ольга и так уже знала, что не оправдала ожиданий, потому что долго не могла забеременеть, и муж не скрывал своего раздражения. На момент замужества ей было далеко за двадцать; до того дня, как доктор объявил, что миновал четвертый месяц и беременность, по всей видимости, протекает благополучно, прошло более десяти лет. За эти годы ей не раз случалось с замиранием сердца ощущать, что теперь-то момент наверняка настал, но раз за разом, к ее отчаянию, все заканчивалось предательским кровотечением через месяц-другой.
Ее рука лежала на выпирающем животе, и пальцы вздрагивали в такт толчкам – один толчок, другой… «Скорее бы уже родить», – думала она и напевала, словно стараясь убаюкать ребенка, но в то же время успокаивая саму себя.
Часы тикали на каминной полке в спальне, еще одни – в коридоре, и бой часов в гостиной каждые пятнадцать минут сообщал, сколько прошло времени, помогая отсчитывать его до того момента, когда можно будет встать. Ольга с нетерпением ждала, когда эта пора придет.
То, что Ольге не хватало места на кровати, было правдой, однако более существенным для Константиноса было легкое отвращение к ее изменившемуся телу. Он почти не узнавал эту женщину. Как могла манекенщица, на которой он женился, женщина со стройными бедрами и талией, которую он мог бы обхватить пальцами, превратиться в нечто такое, к чему он почти брезговал прикоснуться? Его отталкивал этот круглый живот с туго натянутой кожей и огромные темные соски.
В эти последние недели, лежа без сна и считая удары бьющих не в лад часов, Ольга часто слышала тихие шаги на лестнице и едва различимый стук двери в конце коридора. Она подозревала, что, когда ложится спать, Константинос ускользает из дома и тайно посещает самые дорогие городские бордели, но ни на минуту не чувствовала себя вправе протестовать. Может быть, когда-нибудь ей снова удастся вернуть его расположение.
Ольга знала, что Константинос взял ее в жены за красоту. Она не питала иллюзий. Ее выбрали так же, как лучшие портные выбирают одну из множества манекенщиц. Будучи бесприданницей (ее родители умерли, когда ей еще и десяти не было), она считала, что в каком-то смысле ей посчастливилось. Многие манекенщицы, работавшие в Салониках, в конце концов оказывались во все разрастающемся квартале красных фонарей.
Правда, она иногда задумывалась о том, что было бы, выйди она замуж по любви, и понимала, что красота стала для нее не только спасением, но и проклятием. Ольга знала, что это такое – быть товаром, вроде рулона шелка или позолоченной статуэтки, купленным и выставленным напоказ.
Став старше, она начала понимать, что физическое совершенство может быть тяжким бременем, и в то же время, стоило Ольге утратить его, как ее охватило беспокойство. В последние месяцы она с нарастающей тревогой наблюдала за тем, как увеличивается в размерах ее тело: проступившие вены, торчащий пупок, живот, выпятившийся так, что кожа на нем натянулась до предела и верхний ее слой даже начал расходиться, оставляя десятки бледных полосок, словно от капель дождя на стекле.
Хотя из-за постоянной тошноты она почти ничего не ела, тело продолжало раздаваться вширь. Каждое утро, когда Павлина заплетала черные как смоль волосы хозяйки и укладывала вокруг головы, две женщины беседовали, глядя друг на друга в зеркале.
– Вы так же красивы, как и были, – уверяла Павлина. – Разве что в талии немножко поправились.
– Я чувствую, что меня раздуло. Ничего красивого в этом нет. И я знаю, что Константинос меня теперь не выносит.
Павлина встретила Ольгин взгляд в зеркале и увидела в нем грусть. Такой, несчастной, она была еще красивее. Увлажняясь, ее черные, как патока, глаза становились еще глубже.
– Он вернется к вам, – сказала служанка. – Как только ребеночек родится, так все и наладится. Вот увидите.
Павлина говорила со знанием дела. Она сама к двадцати двум годам родила четверых детей и после первых трех родов могла служить живым примером того, что женское тело, как бы чудовищно ни раздалось во время беременности, может вернуться в прежнюю форму. Однако после четвертых родов оно в конце концов утратило эластичность. Ольга взглянула на уютную фигуру служанки – по ней скорее скажешь, что она вот-вот родит, чем по самой Ольге.
– Надеюсь, ты права, Павлина, – сказала она, откладывая в сторону скатерть, на которой медленно и неловко вышивала кайму.
– И когда же вы думаете закончить? – поддразнила ее Павлина, поднося к глазам кусочек ткани, чтобы оценить работу хозяйки. – Ребеночек-то уже в этом месяце должен родиться, так? Или на будущий год отложите?
За шесть месяцев Ольгиных стараний вышивка почти не продвинулась. Иглы выскальзывали из вспотевших пальцев, несколько раз ей случалось уколоться, и капли крови оставляли пятна на кремовом полотне.
– Никуда не годится, да?
Павлина улыбнулась и взяла у нее скатерть. Возразить было нечего. Ольгины руки не были созданы для вышивания. Пальцы у нее были тонкие и изящные, но с иголкой управляться не умели. Для нее это был просто способ убить время.
– Я ее выстираю, а потом закончу сама, хорошо?
– Спасибо, Павлина. Тебе не трудно?
Все последние месяцы Ольга ощущала беспокойство, но в это раннее августовское утро просто не находила себе места. Ей ни минуты не лежалось спокойно. Когда она сидела, спина болела сильнее, чем в стоячем положении, и боли в животе, уже около недели слегка дававшие о себе знать, усилились. Каждые несколько минут она едва не теряла сознание от боли. Наконец-то ее время пришло.
Была суббота, однако Константинос ушел в контору в половине седьмого, как обычно.
– До свидания, Ольга, – сказал он, входя в комнату в ту минуту, когда схватки ненадолго прекратились. – Я буду в торговом зале. Павлина пошлет за мной, если будет нужно.
Ольга попыталась улыбнуться, когда он взял ее ладони в свои. Это должно было ее успокоить, но жест был мимолетным, как касание птичьего пера, – простая формальность, от которой она чувствовала себя не более, а менее любимой. Муж словно бы не заметил ее боли и не услышал ее тихих стонов, когда входил в комнату.
Вскоре она уже выла в голос, потому что накатывающая волнами боль стала нестерпимой, и цеплялась за Павлину так, что на руке служанки остались следы от пальцев. Нет, такие чудовищные муки могли означать только конец жизни, а не ее начало.
Прохожие изредка слышали вопли, полные мучительной боли, но такие звуки не были чем-то необычным в этом городе, к тому же они тонули в какофонии трамвайного звона, скрипа повозок и криков уличных торговцев. В десять часов Павлина послала за доктором Пападакисом, который подтвердил, что ребенок вот-вот появится на свет. Положение Константиноса Комниноса в обществе было таково, что доктор не мог не остаться с его женой, пока роды благополучно не закончатся.
В последние часы родовых мук Ольга уже ни на минуту не отпускала Павлинину руку. Она боялась, что иначе ее неотвратимо затянет в темный туннель боли и унесет из жизни.
Свободной рукой Павлина обтирала лоб хозяйки прохладной водой, которую ей все время носили из кухни.
– Постарайтесь, чтобы она немного расслабилась, – посоветовал доктор Павлине.
Служанка знала по собственному опыту, что, когда у тебя все тело разрывает болью, такие рекомендации совершенно нелепы. Сказать бы ему все, что она об этом думает, но это не имело никакого смысла. Она закусила губу. Этому человеку уже за семьдесят. Пусть он за время своей работы принял хоть тысячи младенцев, но все равно даже приблизительно не представляет, каково сейчас Ольге.
Постель была мокра от пота, воды и той жидкости, что хлынула из нее потоком. Ольга чувствовала, что погружается почти в беспамятство, и думала о кошмарном сне, который приснился ей несколько недель назад и который в том или ином виде раз за разом возвращался к ней в последние дни.
Доктор устроился в удобном кресле и читал газету, время от времени поглядывая на часы, а затем бросая взгляд на Ольгу. Казалось, он следил за ней, а может, просто прикидывал, долго ли еще до обеда.
Тяжелые шторы были почти закрыты, и в комнате царила полутьма. Доктор держал газету так, чтобы на нее падал луч света, пробивавшийся в щель. Только когда от Ольгиных криков, казалось, едва не разлетелось в куски зеркало, он наконец поднялся. Не подходя слишком близко, чтобы не подвергать опасности свой безупречно чистый, без единого пятнышка светлый костюм, он стал выдавать новые указания:
– Головка уже показалась. Теперь нужно тужиться, кирия Комнинос.
Для нее сейчас не было ничего естественнее. Всем существом она желала этого, и в то же время это казалось невозможным, словно ей приходилось выворачиваться наизнанку.
Прошло около часа. Павлине этот час показался сутками, а Ольге – бесконечностью, в которой ее жизнь измерялась одними только приступами боли. Она впала в какое-то исступление. Она не знала, что сердце у нее едва не остановилось и что бедное сердечко младенца было на волосок от гибели. Она чувствовала только одно – боль. Только боль и казалась реальной в эти последние минуты родовых мук.
Ребенок выплыл из тьмы на слабый свет, заполнивший комнату. И закричал. Боли у Ольги прекратились, и она поняла, что этот тонкий вопль не ее. Это какой-то новый звук.
С минуту она лежала молча, не шевелясь. Не в силах вздохнуть. Слезы смертельной усталости и облегчения текли по ее лицу. Ольга почувствовала, что внимание двух людей, до сих пор сосредоточенное на ней, переключилось на что-то другое, находящееся в комнате. Они стояли к ней спиной, и она инстинктивно понимала, что их не нужно отвлекать.
Она закрыла на минутку глаза и прислушалась к их тихому воркованию. Ей не о чем беспокоиться. Ольга чувствовала присутствие четвертого человека в этой комнате. Она знала, что он здесь.
– Кирия Ольга…
Ольга увидела, что Павлина стоит у ее кровати. На фоне белой блузки и необъятной груди служанки маленький белый сверток почти терялся.
– Ваш… ребенок. – Она едва выговорила эти слова. – Вот он, ваш ребенок. Ваш сын. Ваш мальчик, кирия Ольга!
Да, это был он. Павлина положила крохотное существо в Ольгины протянутые руки, и мать с сыном впервые взглянули друг на друга.
Ольга не могла говорить. Любовь нахлынула на нее мощной волной. Никогда она не испытывала более сильного чувства, чем нерассуждающее обожание этого маленького создания у нее на руках. В тот миг, как их глаза встретились, возникла неразрывная связь.
К Константиносу Комниносу послали гонца с сообщением, и, когда он пришел домой, доктор Пападакис ждал его внизу.
– У вас теперь есть сын и наследник, – доложил он с гордостью, словно все тут зависело именно от него.
– Превосходная новость, – ответил Комнинос таким тоном, словно ему сообщили о благополучном прибытии партии китайского шелка.
– Поздравляю! – прибавил Пападакис. – Мать и младенец чувствуют себя хорошо, так что я могу откланяться.
Было уже почти три часа, и доктору не терпелось уйти. Он всегда надеялся, что в субботу работы не будет, а главное, не хотел пропустить концерт, который давал сегодня приезжий французский пианист. Программа была полностью посвящена Шопену, и светское общество Салоников уже бурлило в предвкушении.
– Я на той неделе зайду их посмотреть, а если понадоблюсь раньше, дайте мне знать, кириос Комнинос, – произнес он с механической улыбкой.
Мужчины пожали друг другу руки, и не успел еще доктор выйти за дверь, а Комнинос уже прошагал до середины широкой лестницы. Пора увидеть сына своими глазами.
Павлина помогла Ольге умыться и заново заплела ей косы. Кровать застелили свежими простынями, а младенец спал в колыбели рядом. Это была картина мира и порядка – именно то, что и любил Константинос.
Даже не взглянув на жену, он прошел через всю комнату и долго молча смотрел на запеленатого новорожденного.
– Ну разве не красавец? – спросила Павлина.
– Я не могу его как следует разглядеть, – ответил Комнинос с ноткой неудовольствия.
– Вот проснется, еще насмотритесь, – заметила Павлина. Комнинос бросил на нее неодобрительный взгляд. – Я только хотела сказать, что сейчас лучше дать ему поспать. А как только проснется, я его сразу к вам и принесу. Лучше уж его не тревожить.
– Хорошо, Павлина, – ответил хозяин. – Не могла бы ты оставить нас на минутку?
Как только служанка вышла из комнаты, он взглянул на Ольгу:
– А он?..
– Да, Константинос.
После стольких лет безуспешных попыток забеременеть Ольге был хорошо известен главный страх мужа: что когда она наконец сумеет родить ребенка, с ним окажется что-то не так. Теперь о ее тревоге – как же поступит Константинос, если такое случится, – можно было забыть.
– Он само совершенство, – просто сказала она.
Удовлетворенный, Комнинос вышел из комнаты. Его ждали дела.
О проекте
О подписке
Другие проекты