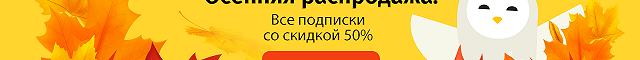
Иван закрыл за собой дверь и улёгся на диван. Потом, вспомнив, сел к телефону, достал записную книжку и начал обзванивать матерей своих солдат, у которых перед отъездом взял номера их домашних телефонов.
– Да точно живой ваш сын, не беспокойтесь… Да не плачьте вы… – успокаивал Потёмкин.
Набрал ещё один номер.
– Это мама младшего сержанта Макарова? – переспросил по телефону. – Я офицер из его батальона. Ваш сын на днях был ранен…
– Только ранен? Ой, спасибо вам! – услышал Иван.
– За что спасибо-то? – опешил Потёмкин, – У вашего сына сквозное ранение плеча, госпитализирован.
Он посмотрел на вернувшуюся из садика жену.
– Ну и матери пошли. Скажешь, что их сын ранен, – рады…
– А ты не говори сразу в лоб, что сын ранен, подготовь как-нибудь… Эх ты, солдафон… Надо же быть толерантным! И чувства материнские понимать надо!
Больше часа звонил по телефону Потёмкин в разные концы страны, передавал приветы, успокаивал, слушал, вздыхал… После материнских рыданий так и пришлось махнуть стакан водки.
И всё же, подумал Иван, в эту кампанию порядка в армии стало побольше. Тогда, в самом начале войны, было много больных, даже с педикулёзом. И с медикаментами очень плохо, не было даже аспирина, а чистое бельё, случалось, привозили уже со вшами.
«Надо же быть толерантным…» – вспомнил Иван упрёк жены. Достала она его в последнее время этим не очень-то понятным модным словом.
– Почему я должен быть терпимым к разной сволочи? – отвечал он в ответ. – Так и сядут на шею!
– Но ты ж чуть что не по-твоему – сразу в лоб!
– Ну и что? Бью – значит, за дело!
Он долго нюхал волосики дочки, когда они с Ленкой пришли из садика. «Господи, как же ты, такая красота, у меня зародилась…»
– А про шоколадку-то я и забыл, – полез Иван в дорожную сумку.
– Ну, такая же, как дядя Витя всегда приносит… – недовольно сказала дочка.
– Это какой дядя Витя? – громко спросил Иван, чтобы и жена слышала.
– Который сюда приходит, к маме в гости.
– Да это Фирсов, начфин наш. Картошки два мешка привозил… – выглянула из кухни вдруг покрасневшая жена.
– Иди-ка сюда, – встал Иван и провёл её в другую комнату. – Смотри в глаза. Было? – грубо взял её за плечи.
– Да ты что, Вань… – А в глазах ложь. – Что, опять скажешь, что жена Цезаря должна быть вне подозрений? – засмеялась глупо.
Иван швырнул жену на кровать.
Когда Ленка ушла на кухню, он услышал пронизывающий душу горький плач дочки и чуть слышно, но с ненавистью:
– Чтоб не болтала!
Малышка со слезами прибежала к отцу, прижалась:
– Она меня по голове стукнула сильно!
«Вот и кончилась наша семейная жизнь…» – подумал Иван, с трудом успокоив дочку. Ленка громко скребла на кухне сковородку.
Ужинали молча, и про шампанское не вспомнил. Спать легли, отвернувшись друг от друга. Ленка осторожно трогала его своей полной коленкой. Иван лежал, не шевелясь, словно застыл не только мозг, но и тело: он всегда долго держал в себе обиду.
Под балконом кто-то начал громко кричать:
– Аслан! Аслан!
Аслан не отзывался. Если бы он лежал при смерти, всё равно бы, наверное, поднялся на такой крик.
– Ну и чего ты орёшь на всю улицу? – вышел Иван в трусах на балкон. – Какой тебе тут может быть Аслан? Страной не ошибся?
– Он здесь живёт! Аслан!
– Это соседи под нами, – сказала Ленка. – Торгаши с Кавказа квартиру снимают.
– Какие у нас могут быть торгаши с Кавказа? – не понял Иван.
– Да наш командир части им целый этаж в общежитии офицерском сдал!
– Как сдал? А пиджаков-лейтенантов куда?
– Их теперь возят ночевать в какие-то заброшенные казармы, километров за девяносто, по-моему. Каждый день туда и обратно, на «Урале».
«Это сколько же надо горючки-то… – подумал Иван. – С ума тут все посходили, что ли?..»
– А дневальные на КПП с этих кавказцев берут за въезд по червонцу каждый вечер, – добавила Ленка.
Иван лёг, заворочался. Под окнами залаяла собака. Лаяла она громко, во всю пасть и, что особенно било по нервам, беспрерывно и глупо, в никуда.
Иван посмотрел на настенные часы, вздохнул.
– Собака мешает? – спросила Ленка. – Лает, стерва, часами без передышки. Бывает, что Танька просыпается, плачет.
– А чья псина-то?
– Да ничья, бродячая. Каждую ночь так заливается. Надоело – сил нет.
– И что, унять некому? Мужиков же в доме полно!
– Никому здесь ничего не надо… – зло ответила Ленка и закрыла ухо подушкой.
Иван встал, прошёл в прихожую.
– Где у тебя тесак, которым ты капусту шинкуешь?
– Ну ещё что придумал?
Иван оделся, достал из ящика с инструментами старый сапожный нож.
Собака гавкала где-то на территории детского садика. В темноте Иван перелез через забор, призывно посвистел. Лай прекратился, а через несколько секунд ему в руки ткнулся холодный собачий нос. «Дворняга, – ласково потрепал её за ухом Иван, – а чёрный-то – как чёрт!» Он с силой вогнал собаке нож в горло, прижал дёргающееся и жалобно взвизгивающее тело к земле. Взял её за шкирку и оттащил в стоявший неподалёку мусорный бак.
И всплыла в памяти картинка из далёкого детства… Как он насмерть дрался со Шмагой (был у них в деревне такой шпанёнок), когда тот палкой убил их любимую общую деревенскую собаку. Звали её Тайга, тоже была чёрная, как чёрт, да и гавкала так же… Тогда он из-за Тайги готов был убить этого Шмагу; долго, весь в слезах от обиды и злости, пинал его в дверях дома, еле отняли родители. А сейчас такой же Тайге он легко перерезал горло… Чтобы дочка Танька не плакала по ночам в страхе из-за собачьего лая.
Пока Иван шёл домой, вспомнил, как в лейтенантские годы съел свою первую собаку. Тренировал солдат ловить и драться с окрестными собаками. Один из них как-то уж очень легко и проворно перерезал псине десантным ножом горло. А потом этот солдат предложить её съесть: «А что, мясо как мясо, у нас в Приморье корейцы их за мёд едят, надо только уметь приготовить…» Съели, ничего, не подавились.
Вспомнил Иван и ещё одну собаку такой же масти и породы – Дика, который в первую кампанию с сапёрами сопровождал колонны до Шатоя. Каждый день зигзагами от обочины к обочине, принюхиваясь – нет ли заложенного фугаса. Двадцать километров в одну сторону, столько же в другую. Однажды утром Потёмкин услышал за палаткой её жалобное, с какой-то детской обидой повизгивание. Вышел. Дик едва сидел от усталости, глаза его слезились, и такая в них была боль! Сбитые в кровь лапы мелко дрожали…
– Господи, до чего довели собаку! – не выдержал тогда Иван. – Лейтенант Комлев! Заменить сегодня Дика!
– Некому, товарищ капитан. Казбек же позавчера подорвался… Он один остался. Я давал заявку в тыл – не шлют собак.
– Здесь их нет, а там гавкают впустую… – разозлился Иван.
Только стал было засыпать, за окном опять начался вой – человеческий. Выл, а скорее орал, какой-то парень. Без остановки и, казалось, на одном дыхании, с молодой дурью. Через пять минут такого ора Потёмкин сам был готов завыть от бешенства: «Ну, сколько же можно! Как не надоест!»
Иван опять надел штаны.
– Да это наркоманы воют, – подняла голову с подушки Ленка. – Неужели опять пойдёшь?
Потёмкин шёл в темноте на так и не смолкающий вой.
На лавочке, едва видимые под дальним светом тусклого фонаря, сидели четверо. Иван подошёл к тому, что выл, он сидел к нему спиной, и молча, без предисловий, свалил его с лавки ударом кулака в ухо. Второй улетел с лавки направо.
– Ты что, мужик?! Оборзел?! – крикнул кто-то из сидевших на второй лавке за столиком.
Потёмкин молча, вместе со столбиками, выдернул освободившуюся из-под сбитых им на землю парней лавку и с силой забросил её в кусты. Своротил стол – и туда же. Раскачал вторую лавку, вытащил – и тоже в кусты. Двое подростков, которым не перепало кулаков, молча и со страхом смотрели на Ивана, первые двое тихо постанывали где-то рядом в темноте.
– Пошли на хер отсюда спать! – сказал Потёмкин.
Он вытер руки о штаны и пошёл домой.
– Спаси и сохрани… – прошептал, засыпая, Иван молитву, которой его в детстве научила бабушка-покоенка.
В Бога Потёмкин не верил, но от этой привычки шептать на ночь короткую молитву избавиться не мог: был он из тех русских мужиков, которые одной рукой крестятся, а другой яйца чешут.
Утром Иван по привычке сунул руку под подушку и похолодел: «А где автомат? Тьфу ты, чёрт, я же дома…»
Жена, собираясь с дочкой в садик и на работу, как ни в чём не бывало попросила:
– Вань, купи сметаны. Банка в кухне на столе.
Всё равно надо было за пивом, и Иван быстро собрался. Отстоял очередь в молочном отделе, мысленно чертыхаясь на старух, медленно, как в сельпо, заказывающих товар.
Наконец подошла очередь Ивана.
– Сметаны!
– Давайте тару! – ответила продавщица.
«Тьфу ты, чёрт, банку-то дома забыл…»
Пришлось вернуться домой. Ещё раз отстоял очередь, с банкой в кошёлке. Подал банку.
– С вас двадцать шесть рублей.
Иван сунул руку в брючный карман. «Кошелёк забыл, будь он проклят!» Опять пришлось идти домой. Банку со сметаной оставил на прилавке.
Наконец сметана в кошёлке. «А где же ключи? Неужели на полочке оставил, когда кошелёк искал? Точно…» Пришлось идти на работу к жене, в поликлинику, за ключом. Ещё полчаса потерял.
Отпирая дверь, Иван уронил кошёлку с банкой. Всё – вдрызг!
«Да будь ты проклята со своей сметаной!» Иван добил кошёлку с банкой о стену и выбросил её в мусорное ведро. «Сходил в магазин, полдня потерял… И про пиво забыл…»
Иван взял ведро со стекляшками и пошёл на помойку. В баке копошился бомж. Иван вывалил ведро, бомж поднял голову из бака. Льдинками блеснули знакомые глаза…
– Юрка? – спросил Иван. – Ты что тут делаешь?
– Бутылки пустые ищу…
Иван оглядел Юрку. Драные, век не стиранные брюки, рубашка с чёрным от грязи воротником. Однажды, ещё в мирное время, этот Юрка, проживавший недалеко от военного городка, попросил Потёмкина, как офицера, помочь создать ему военно-патриотический клуб для местных оболтусов. Иван не поленился, обошёл все нужные инстанции, чтобы получить для Юрки заброшенный подвал в одном из домов. Дружными усилиями оболтусы выгребли оттуда мусор и даже покрасили стены. Но энтузиазм у них быстро угас: курить, матюгаться и болтаться по улицам оказалось легче и интересней, чем ворочать гири и отжиматься на турнике. Клуб распался.
Юрка от обиды, что патриотизм его здесь никому не нужен, решил уехать куда-нибудь в горячую точку, но так что-то и не собрался. Хотя были они тогда на выбор: Карабах, Абхазия, Приднестровье… Мечтал даже в Сербию уехать, братьев-славян спасать. И мечтал-то долго: не один раз, как встречал его Потёмкин, расспрашивал, как туда доехать.
Скоро патриотизм у Юрки иссяк, да и быт заел. Пропил бабкину квартиру, потом свою и покатился… Работать не хотелось, связался со шпаной.
– Сидел? – прямо спросил его Потёмкин.
– Два года, – вздохнул Юрка.
– Эх, патриот ты херов, – рубанул ему Иван. – Живёшь-то где?
– Нигде…
– Мудак!
Иван брякнул пустым ведром и пошёл домой. Юрку было не жаль. «Сколько ему можно помогать в жизни? Не за руку же, такого-то лба, вести на работу устраивать?» – подумал Потёмкин.
Побрившись, Потёмкин пошёл в часть.
Майор Фирсов в кабинете был один. Встал навстречу, пытаясь изобразить улыбку:
– Привет, а за отпускными ещё рано, дня через три…
Иван подошёл, молча, сильно и точно ударил его в челюсть.
– За что – понял? – спросил он, склонившись над свалившимся у стола Фирсовым, и так зыркнул потемневшими от бешенства глазами, что заметил, как мгновенно у того расширились от ужаса зрачки.
Как никогда раньше захотелось напиться. Иван взял в ближайшем от дома киоске бутылку водки и пошёл к подъезду. У дверей соседнего стояла толпа.
«Кого-то хоронят», – понял Потёмкин. Спросил у одного из сидевших на корточках парней, то и дело сплёвывавших на асфальт перед собой:
– Кого?
– Алёшку Рыжова, – ответил пацан и выдохнул пивным перегаром: – Передоз.
С отцом Алёшки, Андреем, Потёмкин служил ещё в Германии. В начале чеченской кампании он был контужен под Грозным и после госпиталя ушёл служить в райвоенкомат. Хорошо помнил Иван и его Алёшку – симпатичного мальчишку с васильковыми глазами. Тот был младше его сына года на два.
Иван поднялся на второй этаж, в квартиру Рыжовых. Отец, почерневший от горя, сидел у гроба с сыном, придерживая за плечи рыдающую жену, Марину. Что-то причитали старушки-соседки…
Потёмкин, всегда тяжело переносивший похороны, вышел на улицу, закурил.
– Вторые похороны в доме на неделе, – сказал ему сидевший на лавке пожилой мужчина. – В первом подъезде внучка задушила насмерть свою бабушку – она до пенсии преподавала научный коммунизм в каком-то институте.
– Ничего себе живёте вы тут… – удивился Потёмкин.
– Так внучка наркоманкой была. Не училась, не работала… Бабушка ей денег на дозу не давала, вот она её и придушила. И внук у неё был. Тот, пока за что-то не посадили, в макулатуру отнёс полное собрание сочинений Ленина, пятьдесят пять томов. Это мне сама Марья Васильевна, профессорша наша, говорила… Царствие ей небесное…
– А родители их где? – спросил Иван.
– Так они ещё в девяносто втором в Америку укатили, за свободой… – ответил ему мужчина.
Подъехал катафалк, и минут через десять гроб вынесли. Андрей Рыжов, заметив в толпе у подъезда Потёмкина, молча кивнул ему.
Пока соседи успокаивали почти потерявшую сознание мать, Рыжов подошёл к Потёмкину.
– Иван, достань мне «Муху»…
– Да ты что, Андрей, мы же не в Чечне. Да и зачем она тебе сейчас?
– Поедешь на кладбище?
– Конечно…
– Родственники усопшего, прощайтесь… – громко, пропитым и прокуренным голосом сказал один из могильщиков.
Когда Алёшку Рыжова засыпали песком под желтеющими берёзками и толпа с кладбища стала рассаживаться по автобусам, Андрей подошёл к Потёмкину.
– Знаю, кто загубил сына, на иглу его посадил, а ничего, Вань, сделать не могу…
– А милиция что же?
– Да что милиция… Одна отговорка: «Очень трудно документировать факт продажи», – махнул Рыжов рукой. – В посёлке за гарнизоном цыгане обосновались, домов понастроили – палаты царские! И всё на продаже наркотиков. Я в январе был на совещании по итогам осеннего призыва. Знаешь, сколько в области от передозировки наркотиков ребят за год погибло? Четыреста пятьдесят пять… У нас в городке с начала года мой сын – пятый уже.
– Ни хрена себе… Это же батальон! Так чего ж вы тут смотрите-то? Неужели управы на них не найти? Здесь, в тылу, и столько парней погубили!
– Так достанешь «Муху», Иван?
– Поехали-ка в эти «палаты царские»!
После поминок они, налив в канистру бензина, на машине Рыжова поехали в посёлок, где обосновались наркоторговцы.
– Вот в этом доме их старший живёт, – показал Андрей Ивану на двухэтажный особняк. – Построен на слезах наших матерей… Героин можно купить в любое время дня и ночи.
Подошли к забору. Во дворе подметал парень.
Иван позвал его и, присмотревшись, сказал:
– Что-то мне рожа твоя знакома… Погоди, ты же у меня в роте служил. Першин, кажется?
– Я, товарищ майор.
– Что ты тут делаешь? Ты же давно дембельнулся. Почему домой не поехал?
– Да вот, застрял здесь…
– На барона, что ли, работаешь? За наркотики?
Потёмкин вспомнил, как в Грозном Першин, тогда механик-водитель танка, по его приказу, под огнём боевиков, хоронил гусеницами наших погибших солдат, чтобы собаки не растащили.
– А ну, позови-ка хозяина…
Вышел цыган – пожилой, с животом, как у деревенской беременной бабы на последнем месяце.
– А ну, хозяин, садись-ка, поговорим, – поставил ему Иван дорогой стул, оказавшийся у забора рядом с лавочкой. – Ты что же делаешь, стервец? Ребят наших губишь…
– Ничем я никого не гублю. А ты докажи! Ты кто такой здесь? – закричал вдруг цыган.
Иван опять почувствовал, как всего его охватывает неукротимое бешенство. «Ты кто такой?» – мысленно повторил он наглый крик цыгана.
– Ты что, думаешь, на тебя и управы нет? Есть! – Иван осадил барона кулаком в лоб, схватил за руки и быстро прикрутил к стулу брошенной Андреем верёвкой. – Неси канистру!
– Эй, эй! Вы что, ребята, с ума сошли? – заорал цыган.
На крик из дома выбежали несколько женщин, таких же крикливых, как чеченки, да и одетых почти так же, но Иван подпёр дверь калитки доской. Потёмкин опрокинул на голову цыгана канистру. Захлёбываясь и мотая головой, тот орал что было мочи, пытаясь высвободить руки.
– Царица Небесная, да вы что задумали-то, нехристи?! – услышал Иван голос за спиной.
К ним почти бежал чернобородый мужичок в рясе священника и с большим крестом на груди.
– Это отец Виссарион, священник местный, – подсказал Рыжов Ивану. – Он же замполит наш бывший, подполковник Выдрин, помнишь его? В отставку вышел и теперь не КПСС служит, а Богу.
– Да вот, суд вершу, товарищ подполковник, – пытаясь успокоиться, ответил Иван.
– Не суд, а самосуд! По какому праву?! – закричал священник. В голосе его зазвучали армейские нотки. – Разве так-то можно – человека живьём жечь?!
– А ему можно наших детей губить? – жёстко спросил Иван. – Или, если у самого дочь, так парней не жалко? Как, бывало, и солдат в армии? Нет, «батюшка», или как там вас сейчас, сам его буду судить, по простому праву русского офицера, как врага нашего.
– Да ведь не по-божески это, Потёмкин! – закричал Выдрин. – Побойся Бога!
– А я не Богу служу, а России! Отойдите, товарищ подполковник, от греха…
Потёмкин достал из кармана коробок со спичками. За забором опять взвыли цыганки.
– Пощади! Мы уедем сегодня же, всё бросим! – взмолился барон.
Из-за поворота выехал и резко затормозил милицейский уазик. Из машины неторопливо вылез седой капитан в сером поношенном мундире.
– Что здесь происходит? – грозно спросил на ходу страж порядка.
– Они меня, товарищ начальник, хотят сжечь! Бензином облили! За то, что я будто бы наркотиками торгую, – закричал цыган.
– Так ведь и правда же торгуешь, – спокойно сказал милицейский капитан. – Три из пяти твоих дочерей сидят за героин, сына посадили за это же, и тебе, дай срок, не отвертеться. Мужики, – подошёл капитан к Потёмкину и Рыжову, – и охота вам за это гнилое мясо потом сидеть? Успокойтесь, посажу я его всё равно.
Иван молча сдавил коробок в кулаке. Ненависть уходила, душу заполняла звенящая пустота. «Вот такие мы, русские, дураки… Травят нас, губят, а раздавить гадину, если не в бою, и духу не хватает…»
– А ты… как там тебя? Забыл, – склонился милицейский капитан к самой роже барона. – Чтобы завтра к утру в посёлке не было ни тебя, ни баб твоих, никого вообще из ваших, что здесь у нас жить вздумали. Понял меня? А то ведь я в другой такой раз и не приеду… Развяжи его, – приказал капитан водителю.
Цыган проворно, качая пузом, убежал в дом. Бабы его мигом стихли. Капитан сел в уазик и уехал.
О проекте
О подписке
Другие проекты
