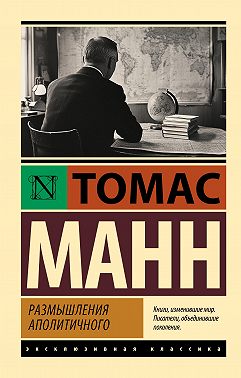В этой книге прекрасно всё: дух, тема, язык, стиль, задор, ирония, противоречия, самоанализ, интеллект. Манн-художник, Манн-эстет, Манн-консерватор, Манн-полемист, Манн-моралист, Манн-немец раскрываются во всеоружии своего таланта. Ибо и немцем (равно как и французом, русским...) быть — нужен талант, не всякому дано.
Манн знает, на сколь шатких позициях он стоит, оправдывая, объясняя, возвышая германскую войну. Но он не боится поднимать забрало. Он даже не отказывает себе "в удовольствии вообразить Европу бесспорной и полной немецкой победы". Он еще верит в рыцарские победы — художнику непросто расставаться с идеалами, ведь кто он без них?
Манн знает свою правду — правду большого писателя, духовного ученика Гёте и Ницше. Искусство нельзя загнать в рамки, связать общественным мнением и клятвой демократии, как нельзя запретить человеку познавать, даже если перед ним тайны атома. Человечество, запретившее себе что-либо познавать, о чем-либо говорить, что-либо воображать — это динамит с зажжённым фитилем. Когда-нибудь мало не покажется.
Позиция Манна — всегда оппозиция. Ему не мил не прогресс как таковой, а его абсолютный, священно-непререкаемый характер, ставший нормой эпохи модерна. Он не чужд новому, но и не желает лишиться старого, ведь его по крупицам собирали и лелеяли бесчисленные поколения. Кто мы такие, чтобы выбрасывать что бы то ни было с парохода современности? С корабля сбрасывают ценности только тогда, когда он тонет.
По существу, Манн оправдывает только одно — сложное. Как сказал бы Константин Леонтьев (жаль, что Манн его не читал), "цветущую сложность культуры". В ней — и только ней — сходится несходимое, сочетается несочетаемое: война и мир, прогресс и варварство, демократия и аристократия, страдание и радость, политика и метафизика. Выбрать что-то одно и запретить другое, значит погубить культуру, что бы вы ни выбрали.
Пусть обретут плоть все прогрессистские утопии, пусть земля освятится разумом, исполнятся все мечты социального эвдемонизма, пусть станет действительностью пацифизированная земля эсперанто и воздушные омнибусы засвистят над головами разумно-благочестивого, безгосударственно-объединённого, одноязычного, технически всевластного, электрически-телескопического «человечества», облачённого в белые одежды, — искусство тем не менее будет жить, порождая стихию ненадёжности, сохраняя возможность, мыслимость рецидива. Будет говорить о страсти и неразумии, изображать, культивировать, славить страсть и неразумие, беречь, теребить и энергично пробуждать первобытные мысли, первобытные инстинкты, скажем, мысль о войне, инстинкт войны... Его не смогут запретить, ведь это ущемляет свободу. Или «человечество» будет жить при абсолютизме, при тирании разума, добродетели и счастья? Тогда тем более вероятно, что искусство полностью перейдёт в оппозицию... Иными словами, война, героизм реакционного толка, всяческое бесчинство неразумия будут допустимы, а стало быть, возможны на земле до тех пор, пока существует искусство, а оно будет жить и умрёт вместе с «человечеством».
P. S. У этой книги прекрасен даже перевод. Хотя он издан в 2015 году издательством ЭКСМО. Но Екатерина Шукшина, дочь того самого Шукшина, справилась великолепно, в полной мере передав умно-ироничный стиль автора. Хорошо поработали и корректор с редактором. Я нашел только одну ошибку: шведский писатель Вернер фон Хейденстам был зачем-то онемечен как Хайденштам. На фоне нынешней дичи, когда ошибки встречаются даже на обложках, а уж в тексте их, как тараканов в коммуналках, поразительно!