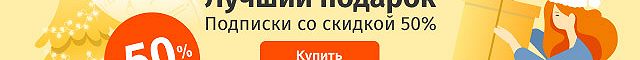
В ту последнюю ночь, когда я, как обычно, вышел на прогулку, было пасмурно и дождливо, все окутывал густой туман. В такую пасмурную погоду исчезают ядовитость красок и резкость очертаний предметов. И неожиданно во мне возникло чувство свободы и покоя, как будто дождь смыл все мои мрачные мысли. В ту ночь случилось невероятное. Бесцельно бродя в эти часы, в эти минуты одиночества, которые трудно сказать сколько длились, я вдруг отчетливее, чем всегда, увидел ее нежное и жуткое лицо, словно оно выглянуло из-за облака или сквозь дым, безжизненное, как изображение на пенале, лицо.
Когда я вернулся, вероятно, прошла уже бо́льшая часть ночи и туман настолько сгустился, что ничего не было видно под ногами. Какое-то особое чувство мне подсказало, что здесь кто-то есть. Действительно, на саку я обнаружил фигуру в черном, фигуру женщины.
Я зажег спичку, чтобы найти замочную скважину, и, не знаю почему, взглянул на фигуру в черном: я увидел два удлиненных глаза, два больших черных глаза на худом, тонком и бледном лице. Я узнал эти глаза, которые смотрят на человека, не видя его. Если бы я раньше не видел ее, я все равно бы ее узнал. Нет, я не заблуждался: эта фигура в черном была она! Я был похож на человека, который видит сон, знает, что это сон, хочет проснуться и не может. Совершенно ошеломленный, я замер на месте. Спичка догорела до конца и обожгла мне пальцы, в этот момент я пришел в себя. Я повернул ключ в замке, и дверь открылась. Я пропустил ее вперед. Подобно человеку, знавшему дорогу, она поднялась с саку и вошла в темный коридор. Она открыла дверь в комнату, и я последовал за ней. Волнуясь, я зажег лампу и увидел, что она направилась к моей кровати и легла. Лицо ее было в тени. Я не знал, видит ли она меня, слышит ли мой голос. Казалось, она не испытывает ни чувства страха, ни желания сопротивляться. Было похоже на то, что она пришла сюда помимо своей воли.
Может быть, она больна или заблудилась? Бессознательно, как во сне, она забрела сюда. Никто не может себе представить, что я испытывал в это мгновение. Это была какая-то сладостная мука, о которой трудно рассказать. Нет, я не ошибался. Это была та самая женщина, та самая девушка. Нисколько не смущаясь, безмолвно вошла она в мою комнату. Я всегда представлял себе, что наша встреча именно так и произойдет. Это было похоже на какой-то глубокий, бесконечный сон. Да, лишь погрузившись в глубокий сон, можно было увидеть такое. Это молчание имело для меня значение вечности, потому что в вечности нет места словам.
Для меня она была обычной женщиной, и в то же время в ней было нечто отличающее ее от всех людей, нечто нереальное. Ее лицо заставляло вспомнить что-то волнующее, уже забытое в лицах других людей. При созерцании его дрожь охватывала тело и слабели колени. В это мгновение в моем мозгу промелькнули все тягостные события моей жизни, как будто я взглянул на свою жизнь ее громадными, влажными, блестящими глазами, похожими на омытые слезами алмазы. Я погрузился в эти темные, черные, как вечная ночь, глаза, глаза, которые я искал и нашел, в их страшную, волшебную черноту. Казалось, они поглощают все мои силы, земля качалась подо мной, и если бы я упал, то испытал бы несказанное наслаждение.
Сердце у меня замерло, я задержал дыхание, боясь, чтобы она не растаяла, как облако или дым. Ее молчание казалось чудом, казалось, что между нами воздвигнута хрустальная стена. Промелькнуло мгновение, а может быть, прошла целая вечность, я начал задыхаться. Глаза ее, как будто она увидела нечто сверхъестественное, то, что не дано увидеть другим, будто она увидела самоё смерть, начали тихонько закрываться, веки ее смежились, а я, словно утопающий, всплывший на поверхность после отчаянной борьбы за жизнь, стал дрожать как в лихорадке и вытирать рукавом пот со лба.
На лице ее появилось отрешенное выражение, оно как будто еще больше похудело, осунулось. Она вытянулась и зубами прикусила указательный палец левой руки. Лицо ее приобрело лунный оттенок. Сквозь черное тонкое платье, облегавшее фигуру, отчетливо вырисовывалась линия ног, плеч, груди – всего тела. Чтобы лучше ее разглядеть, я нагнулся. Глаза ее были сомкнуты. И сколько я ни всматривался в ее лицо, я видел лишь, что она очень далека от меня. Я почувствовал, что совершенно не знаю, что таится у нее в сердце, и ощутил, что между нами нет никакой связи.
Я хотел что-то сказать, но побоялся, что мой голос оскорбит ее тонкий слух, привыкший к далекой, нежной, небесной музыке.
Вдруг мне пришла в голову мысль, что она голодна или хочет пить. Я вышел в кладовку, чтобы отыскать для нее что-нибудь, хотя хорошо знал, что у меня дома нет ничего. Неожиданно меня осенило – я вспомнил, что на полке стоит бутыль со старым вином, оставшимся мне в наследство от отца. Я подставил табурет, снял бутыль и на цыпочках подошел к кровати. Она спала, как усталый ребенок. Она крепко спала, ее длинные бархатные ресницы были сомкнуты. Я откупорил бутыль и осторожно влил сквозь ее стиснутые зубы пиалу вина.
Впервые в жизни у меня появилось чувство неожиданного покоя. При виде ее сомкнутых век я словно избавился от пыток, которым меня подвергали, немного утихли кошмары, которые раздирали мой мозг. Я принес стул, сел у постели и стал вглядываться в ее лицо. Какое это было детское лицо, какое оно имело удивительное выражение! Неужели можно было подозревать, что у этой женщины, девушки, у этого ангела му́ки (я ведь не знал, как ее назвать!), что у нее была двойная жизнь? У такой спокойной, такой умиротворенной?
Теперь я мог ощущать тепло ее тела, вдыхать влажный аромат, исходивший от ее тяжелых черных кос. Не знаю, как я поднял свою дрожащую руку – ведь рука не подчинялась моей воле, – я притронулся к ее локону, который лежал на виске. Я погладил этот локон. Волосы были холодными и влажными. Холодными, совершенно холодными. Как будто она умерла уже несколько дней назад. Нет, я не ошибался. Она умерла. Я положил ей руку на сердце, под грудь. Не чувствовалось и малейшего биения. Я принес зеркало, поднес к ее губам – зеркало нисколько не запотело…
Я хотел согреть ее жаром своего тела, передать ей свое тепло и принять на себя холод смерти. Может быть, думал я, так я смогу вдохнуть в ее тело свою душу. Я сорвал с себя одежду и лег рядом с ней на постель. Мы слились воедино, как мужской и женский корни мандрагоры. Ее тело походило на женский корень мандрагоры, который отделился от мужского корня, и в ней была та же страсть мандрагоры. Рот ее был терпким и горьковатым и напоминал горький вкус огуречной кожуры. Тело было холодным как лед. Я почувствовал, что кровь стынет в моих жилах и этот холод проникает до самого сердца. Все мои усилия были напрасными. Я встал с постели, оделся. Нет, это не было обманом. Она здесь, в моей комнате, она легла на мою постель и вручила мне свое тело и душу!
Пока она была жива, пока глаза ее были полны жизни, лишь воспоминание о ее глазах приносило мне страдание. Теперь же, бесчувственная, неподвижная, холодная, с закрытыми глазами, она пришла и отдалась мне. С закрытыми глазами!
Это была та самая женщина, которая отравила всю мою жизнь. А может быть, так было суждено, чтобы жизнь моя стала отравленной и я, кроме загубленной, отравленной жизни, и не мог иметь иной. Теперь в моей бедной, нищей комнате она отдала мне свое тело и свою тень. Ее хрупкая, недолговечная душа, не имевшая ничего общего с миром живых, покинула ее черное измятое платье, отделилась от оболочки, доставлявшей ей страдания, и ушла в мир блуждающих теней. Казалось, она унесла с собой и мою тень. Но ее безжизненное, неподвижное тело лежало здесь. Ее нежные мускулы, жилки, вены, ее кости ожидали гниения, были как бы приготовлены на съедение червям под землей. В этой нищей, бедной комнате, в комнате, похожей на склеп, я должен был провести темную бесконечную ночь, охватившую меня, как эти четыре стены, эту долгую ночь рядом с трупом. С ее трупом. Мне почудилось: все то время, пока существует мир, пока существую я, мертвец, холодный, недвижимый мертвец всегда находился в темной комнате рядом со мной.
Мысли мои оледенели. Во мне родилась какая-то странная жизнь. Моя жизнь связывалась со всем сущим, с тем, что окружало меня, со всеми тенями, дрожащими вокруг. Между мной и окружающим миром, мной и движением всего живущего, всей природы существовала глубокая, нерасторжимая связь. Какие-то невидимые нити протянулись между мной и всеми элементами бытия, нити, оживляемые токами большого напряжения. Никакие мысли, никакие фантазии не представлялись мне нелепыми. Я был способен с легкостью постичь тайны древней живописи, тайны сложных философских трактатов, суть первой глупости – сотворения форм и видов. Потому что в эту минуту я был причастен к вращению Земли и небес, участвовал в росте трав и цветов, в движении животных. Прошлое и будущее, далекое и близкое – все это соединилось в моей духовной жизни.
В такие моменты каждый уходит в свои закоренелые привычки, в свои заблуждения и фантазии. Пьяница напивается, писатель сочиняет, скульптор обтесывает камень – и каждый вкладывает в это порыв своего сердца, свои убеждения. В такие моменты подлинный мастер создает шедевр. Но я, я не имел призвания и был бедняком, и что мог сделать я, художник, разрисовывающий пеналы? Какой шедевр мог создать я, постоянно рисуя одно и то же, один и тот же сухой, безжизненный рисунок? Во всем своем существе я ощущал опьяняющее вдохновение и странный жар. Это было особое волнение. Я хотел запечатлеть на бумаге эти глаза, которые закрылись навсегда, и сохранить их для себя. Какое-то чувство заставило меня приняться за осуществление своего намерения. Мною что-то руководило, я не подчинялся своей воле. И это в то время, когда человек оказывается запертым в одной комнате с мертвецом… Эта мысль рождала особую радость.
В конце концов я погасил коптившую лампу, принес два подсвечника и зажег свечи у изголовья. В колеблющемся пламени свечей лицо ее казалось еще более спокойным, и в полумраке комната стала таинственной и нереальной. Я взял бумагу, все необходимое для работы и подошел к ее кровати. Теперь ведь кровать принадлежала ей. Я хотел запечатлеть на бумаге это тело, обреченное на постепенное, незаметное разложение, уничтожение. Передать на бумаге эти формы, внешне неподвижные, мертвые. Я хотел набросать основные контуры. Выбрать те линии, которые так поразили меня в этом лице. Этот рисунок я намеревался сделать простым и небольшим по размеру. Я хотел, чтобы он впечатлял, был живым. Ведь я привык рисовать лишь на пеналах, а теперь я должен был в рисунке выразить свои мысли, свои мечты, то есть то неясное, что поразило меня в ее лице. Мне нужно было все отчетливо представить. Я должен был взглянуть на нее и затем по памяти воспроизвести на бумаге то, что уловил в ее лице: может быть, в этом я найду наркотик для своей истерзанной души. В конце концов я хотел укрыться среди неподвижных линий и форм. Этот сюжет особенно подходил к моему мертвенному стилю. Вообще, я был художником мертвецов. Но ее глаза, ее закрытые глаза… неужели мне необходимо снова увидеть их, неужели они недостаточно ярко запечатлелись в моем мозгу?
Не знаю, сколько раз до рассвета я рисовал ее лицо, но ни один рисунок не удовлетворял меня. Все, что ни рисовал, я сразу же рвал. Я не чувствовал усталости и не замечал времени.
Начало светать, в комнату сквозь окна стал проникать слабый свет. Я рисовал, и мне казалось, что получается лучше, чем раньше. Но ее глаза?! Те глаза, в которых я читал упрек, словно они не прощали мне моих прегрешений, эти глаза я не мог перенести на бумагу… Неожиданно из моей памяти совершенно исчезли ее глаза. Все старания вспомнить их были напрасны. Сколько я ни вглядывался в ее лицо, я никак не мог вспомнить, какими они были. Вдруг я увидел, что щеки ее порозовели, покраснели, стали цвета мяса в мясной лавке. Она ожила, и ее громадные удивленные глаза, глаза, в которых мелькнула искра жизни и которые озарились болезненным светом, ее большие укоряющие глаза вдруг очень медленно приоткрылись, и она посмотрела на меня. Впервые она обратила на меня внимание, она взглянула на меня, и веки ее снова сомкнулись. Это длилось всего мгновение, но этого было достаточно, чтобы я схватил выражение ее глаз и перенес его на бумагу. Кончиком кисточки я запечатлел это выражение на бумаге – и не уничтожил рисунка. Затем я поднялся с места и тихонько приблизился к ней. Мне казалось, что она жива, ожила, что моя любовь вдохнула жизнь в ее оболочку. Но вблизи уже чувствовался запах покойника, я уловил запах тления. По ее телу ползали мелкие черви, и в лучах свечи над ней кружились две золотистые мухи.
Она умерла. Но почему, как могло случиться, что у нее открылись глаза? Не знаю. Может быть, мне это померещилось? Было ли это в действительности?
Я не хочу, чтобы кто-нибудь меня об этом спрашивал, для меня главным было не ее лицо, а глаза. Вот теперь я обладаю этими глазами, я обладаю душою этих глаз, но только на бумаге. И тело ее мне больше ни к чему, это тело, которое было обречено на уничтожение, должно быть отдано на съедение червям. Теперь и навсегда она принадлежала мне. Нет, я был подчинен ей. Каждую минуту, когда бы я ни пожелал, я мог видеть ее глаза, и с величайшей осторожностью я положил рисунок в жестяную коробку и спрятал в кладовке.
Ночь шла на цыпочках. Казалось, она страшно устала. Слышались отдаленные звуки. Может быть, крикнула птица во сне, может быть, росли травы. В этот момент поблекшие звезды скрылись за тучами. Я почувствовал на своем лице прикосновение легкого ветерка, и сразу же где-то далеко пропел петух.
Что было делать с покойницей? С покойницей, которая уже начала разлагаться? Сначала я думал закопать ее в своей комнате. Потом решил, что ее надо вынести и положить в могилу, вокруг которой растут голубые лотосы. Но для того, чтобы сделать это тайно, незаметно, требовалось все обдумать. Сколько нужно было труда и ловкости! К тому же я не хотел, чтобы ее осквернил чей-то чужой взгляд. Все это я должен был выполнить сам, своими руками. К дьяволу! Что я? Обо мне нет речи, вообще, какой смысл имела моя жизнь после нее? Но она… Никогда, никогда никто, кроме меня, не должен смотреть на ее мертвое тело. Она пришла ко мне в комнату, она отдала мне свое холодное тело, свою тень для того, чтобы никто другой ее не видел, чтобы никто другой не осквернил ее своим взглядом.
В конце концов мне пришла в голову мысль: надо разрубить ее тело на части, положить в чемодан, в мой старый чемодан, самому вынести ее из дома, отнести далеко-далеко и там закопать.
Теперь я уже не колебался. Я взял нож с костяной ручкой, который хранился у меня в кладовке, и осторожно разрезал ее черное платье – единственное, что на ней было. Казалось, что она вытянулась. Я отрезал ей голову. Из горла вытекла загустевшая кровь. Потом я отрезал ей руки и ноги, все сложил в чемодан и накрыл останки черным платьем. Я запер чемодан и спрятал ключ в карман. Закончив все, я свободно вздохнул. Подняв чемодан, я убедился, что он очень тяжелый. Я никогда не чувствовал себя таким усталым, нет, я никак не смогу сам нести этот чемодан.
Снова небо нахмурилось, и пошел мелкий дождь. Я вышел из комнаты, надеясь встретить кого-нибудь, кто отнес бы мой чемодан. Вокруг никого не было. Вглядевшись, я сквозь плотный туман увидел немного поодаль старика, который, сгорбившись, сидел под кипарисом. Медленно я приблизился к нему. Я еще не успел раскрыть рот, как старик засмеялся сухим, резким смехом, от которого у меня волосы встали дыбом. Он заговорил: «Если тебе нужен носильщик, я готов. А? У меня есть погребальная повозка. Каждый день я перевожу покойников, хороню их в Шах-Абдоль-Азиме. Я и погребальные носилки делаю. У меня есть на всякий рост. Подберу в самый раз. Я готов хоть сейчас!»
Он громко смеялся, плечи его тряслись. Я показал ему на свой дом, но он не дал мне и слова сказать. «Ни к чему, – сказал он, – я и сам хорошо знаю, где твой дом. Вот сейчас…»
Он поднялся с места, я же вернулся домой и с трудом дотащил чемодан до дверей. У дома уже стояла старая, разбитая погребальная повозка, в которую были запряжены два старых, тощих одра. Сгорбленный старик сидел на козлах, и в руках у него был длинный бич. Он даже не оглянулся на меня. С большим трудом я поставил чемодан в повозку, где было специальное углубление для гроба, сам я тоже лег туда и положил голову на край углубления, чтобы смотреть по сторонам. Потом я подтащил чемодан себе на грудь и крепко обхватил его обеими руками.
В воздухе послышалось щелканье бича, лошади, тяжело дыша, тронулись с места, из ноздрей у них шел пар, который, словно клубы дыма, вился в пропитанном сыростью воздухе. Лошади ступали мягко. Их тощие ноги тихонько поднимались и беззвучно опускались на землю и напоминали руки воров, руки, кисти которых по приговору отрубили и которые затем опустили в кипящее масло. Звон бубенцов на шеях лошадей глухо раздавался во влажном воздухе. Какое-то необъяснимое, непонятное спокойствие охватило всего меня, внутри все замерло. Я лишь ощущал на своей груди тяжесть чемодана.
Ее труп, ее тело… Как будто всегда эта тяжесть давила мне на грудь. Дорогу застилал плотный туман. Повозка быстро, но плавно проезжала мимо гор, полей и реки. Вокруг меня был какой-то новый, невиданный мною прежде ни во сне, ни наяву пейзаж. Высились горы, по обеим сторонам дороги росли удивительные, странные, словно кем-то проклятые деревья, за деревьями виднелись то треугольные, серого цвета дома, то дома в виде призм или кубов с небольшими дверями и окнами без стекол. Эти окна напоминали безумные глаза бредящего. Не знаю, что заключалось в этих стенах, но нестерпимый холод, исходивший от них, проникал до самого сердца. Казалось, что в этих стенах никогда не жил ни один человек. Вероятно, эти дома были построены для призрачных теней каких-то неведомых существ.
Старик вез меня по какой-то неизвестной дороге или вообще по бездорожью. Местами попадались лишь голые стволы деревьев, деревья с искривленными стволами окаймляли дорогу. Выше и ниже дороги виднелись дома неведомых геометрических форм – в виде целого или усеченного конуса – с узкими, кривыми окнами, в щелях домов росли голубые лотосы, они вились по стенам и дверям.
О проекте
О подписке
Другие проекты
