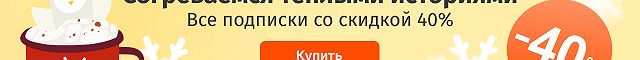
Прекрасные греческие мифы, будучи подлинным творением воображения (а не капризной фантазии), хранят универсальную истину. Взять хотя бы историю о Прометее! Какое богатство смыслов и постоянное живое звучание в ней! Помимо её первичного значения – первого шага Европы на пути к изобретению ремесла и переселения народов, она ещё и во многом воспроизводит историю религий последующих эпох. Прометей – это Иисус древней мифологии: друг человечества, что встаёт между суровой «правдой» Небесного Владыки и простыми смертными, добровольно страдая ради них. Но в том, что он ослушался Зевса, проявилась та часть человеческого духа, которой трудно примириться с грубо внешним учением о Боге и которая, защищаясь, выказывает недовольство якобы существующим высшим существом и тяготится долгом благоговения. Она, если бы могла, похитила бы у Творца его огонь и жила бы без него, независимо от него. «Прикованный Прометей» – это роман о скептицизме. И не менее вечно звучат детали этой величавой притчи. «Аполлон пас стада Адмета», говорили поэты. Боги, являясь среди людей, не узнаются. Не узнали Иисуса, не узнали Сократа и Шекспира. Антей был задушен Гераклом, но всякий раз, когда он касался матушки-земли, его силы восстанавливались. Человек – это сам тот великан, которому важно прикасаться к природе. Сила музыки, поэзии, способная «окрылить» даже плотную материю, даёт ключ к разгадке Орфея. Философское осознание идентичности сквозь бесконечные изменения формы – это и есть Протей. Кто я, если вчера смеялся или плакал, если этой ночью спал, словно мёртвый, а утром хожу и бегаю? Да что вижу я повсюду, кроме метаморфоз Протея? Я могу любому созданию или факту дать образ своей мысли, ведь каждый из них – это человек, действующий или испытывающий действие. Тантал – лишь другое имя для тебя и меня. Тантал символизирует невозможность вкусить воды мысли, вечно мерцающей и колышущейся перед самой нашей душой. «Переселение душ» – не сказка: мужчины и женщины лишь наполовину человеческие. Каждое животное – из хлева, из леса, с земли и с вод – умеет оставить в нас свой отпечаток. «Брат мой, – хочется сказать, – останови отлив своей души, что утекает в привычные формы, в которые ты уже много лет соскальзывал». И столь же близка нам древняя басня о Сфинксе, что сидит у дороги и задаёт каждому прохожему свою загадку, и если человек не может ответить, она живьём его проглатывает. Но если он решит её задачу, Сфинкс гибнет. Разве жизнь наша не подобна бесконечному потоку крылатых явлений? Они сменяются в ослепительном многообразии и предъявляют человеческому духу свои вопросы. Те, кто не может ответить на них высшим разумом, становятся их рабами, они заваливают людей, властвуют над ними, превращая в рутинеров, в «здравомыслящих», способных лишь послушно следовать фактам, подавив во себе последний проблеск духовного света. Но если человек верен тому, что в нём выше, не допускает, чтобы факты брали над ним верх, помня, что принадлежит к более высокому роду, держится ближе к душе и ищет первопричину, – тогда и факты послушно становятся на свои места, зная, кто тут хозяин, и даже самый ничтожный из них прославляет его.
В «Елене» Гёте можно заметить ту же тягу к тому, чтобы каждое слово воплощалось в вещь. Эти персонажи – Хирон, Грифон, Форкия, Елена, Леда – в глазах поэта обладают своими чертами и влияниями, и в этой мере они вечны, столь же реальны сегодня, как в начале Олимпиад. Гёте долго обдумывает их, затем свободно выплескивает собственное вдохновение, придавая им зримое тело в своём воображении. И пусть эта поэма смутна и причудлива, как сон, всё же она гораздо увлекательнее многих стройных и выверенных драм того же автора. Почему? Потому что дарит уму чудесную передышку от привычных образов, будит наше воображение дикой свободой замысла и нескончаемым каскадом ярких сюрпризов.
Вселенская природа, слишком мощная для ограниченного «я» поэта, садится ему на плечи и пишет его рукою. И выходит, что когда ему кажется, будто он предаётся пустой выдумке или дикой романтике, на деле рождается точная аллегория. Недаром Платон говорил, что «поэты говорят великие и мудрые вещи, которым сами не до конца вдаются». Все выдумки Средневековья объясняются как маскированное, игривое выражение того, к чему люди той эпохи стремились со всей серьёзностью. Вся магия и то, что ей приписывают, – это глубокая предчувствие могущества науки. Сапоги-скороходы, меч-кладенец, власть над стихиями, умение пользоваться таинственными свойствами минералов, понимать птичий язык – всё это смутные, но верные метафоры движения человеческого ума. Чудесная сила героя, вечная юность и прочее – такие же попытки духа «заставить вещи являть желания ума».
В «Перкефоресте» и «Амадисе Гальском» у верной женщины на голове расцветают венки и розы, а у неверной они вянут. В сказании о «Мальчике и плаще» даже зрелый читатель не может сдержать радостного трепета за добрую Генелас, сумевшую выйти победительницей. И вообще все те эльфийские предания – о феях, которые не любят, когда их зовут по имени, о коварных и ненадёжных их дарах, о том, что, ступив на путь сокровищ, надо молчать, и прочее – я проверил у себя в Конкорде, и оказалось, они ничуть не менее справедливы, чем в Корнуолле или Бретани.
Разве в новых романах всё иначе? Я, например, читал «Ламмермурскую невесту»: сэр Уильям Эштон – лишь маска для распространённого искушения; замок Рэвенсвуд – красивое название для гордой нищеты, а «важное госзадание за границей» – чисто буньяновский приём для обозначения честного ремесла. Мы все можем «застрелить дикого быка, который готов растоптать всё доброе и прекрасное», если научимся противостоять несправедливому и чувственному. Люси Эштон – это всего лишь иное имя для верности, которая всегда чудесна и вместе с тем всегда на краю беды в этом мире.
Но ведь наряду с историями о человеческих нравах и мыслях каждый день пишется ещё одна история – внешнего мира, и человек тесно в неё вовлечён. Он – краткое изложение времени, но и «близнец» самой природы. Его сила в том, что он способен связать себя со всем сущим, все ниточки бытия косвенно или прямо вплетены в его жизнь. Как в древнем Риме все главные дороги начинались на Форуме и расходились на север, юг, восток и запад ко всем провинциям империи, открывая каждому крошечному поселению в Персии, Испании или Британии путь к войскам столицы, так и из человеческого сердца тянутся дороги к сердцу любой вещи – чтобы подчинить её владычеству человека. Человек есть связка отношений, узел корней, плодом которых служит мир. Его способности указывают на явления вне его самого и предвосхищают тот мир, в котором он будет жить, как плавники у рыбы говорят о воде, а крылья у орла в яйце – о воздухе. Без внешнего мира он жить не может. Посади Наполеона на крохотный остров, лиши его возможности действовать на людей, покорять вершины и ставить на кон судьбу – и он будет лишь беспомощно размахивать руками и покажется глупцом. Дай ему просторы, миллионы людей, противоречивые интересы и могущественных соперников – и ты увидишь подлинного Наполеона. То, что ты видишь на поверхности – только тень Тальбота:
«Сущность его не здесь:
Перед тобой лишь малая часть
И ничтожная крупица человечества;
Полная же его природа
Настолько необъятна и высока,
Что ни один чертог её не вместит.»
(Шекспир, «Генрих VI»)
Колумбу нужен был целый шар, чтобы прокладывать курс. Ньютону и Лапласу – бесконечные времена и густо усеянные небесные просторы. Скажи, разве сам разум Ньютона не предвещал уже гравитирующую Солнечную систему? Не предрекали ли мозг Дэви или Гей-Люссака с детства грандиозные законы организации частиц, когда они изучали их притяжение и отталкивание? Разве глаз человеческого эмбриона не пророчит, что есть свет, а слух Генделя – волшебную силу гармонии? Разве изобретательные пальцы Уатта, Фултона, Уиттимора, Аркрайта не предсказывали, что найдутся металлы, дерево и камень с их способностями к плавке и обработке? Разве чудесные черты юной девушки не указывают на всё богатство и утончённость будущей цивилизации? Тут мы вспоминаем и о том, как человек воздействует на человека. Ум может годами обдумывать свой опыт, и не узнать себя так глубоко, как узнаёт за один день, вспыхнув негодованием при вопиющей несправедливости или услышав пламенную речь, или разделив единый порыв в многотысячной толпе, охваченной восторгом или страхом за судьбу нации. Никто не может предугадать свой опыт или догадаться, какую способность откроет в нём новый «предмет» – всё равно что сегодня нарисовать по памяти лицо того, кого ты только завтра увидишь впервые.
Не стану сейчас углубляться в причину этой таинственной согласованности ума и природы. Достаточно нам, что при свете этих двух истин – о единстве Разума и о том, что природа ему созвучна, – нужно читать и писать историю.
Так душа, всеми способами, собирает и воссоздаёт свои сокровища для каждого ученика. И он тоже пройдёт весь кругозор опыта, сосредоточив в себе лучи всей природы. История перестаёт быть скучной книгой: она оживает в каждом по-настоящему мудром и справедливом человеке. Не нужно рассказывать мне о каталогах, языках и титулах прочитанных книг – покажи лучше, какими эпохами ты жил. Человек сам становится храмом Славы, ходит в пёстром одеянии с вышитыми на нём чудесными событиями и переживаниями; его ум и лицо, озарённые высоким сознанием, делают этот наряд ещё ярче. Я нахожу в нём прообраз древнейших времён: в его детстве – Золотой Век, Яблоко Познания, поход аргонавтов, призвание Авраама, постройку Храма, Рождество Христово, Тёмные Века, Возрождение, Реформацию, открытие новых земель, рождение новых наук и тайн в человеке. Он – жрец Пана, несущий в скромные обители благословение утренних звёзд и все записанные дары неба и земли.
Кажется ли этот взгляд на себя самих надменным? Тогда я готов отказаться от всего сказанного, ведь к чему притворяться знающим там, где мы не знаем? Но это порок нашего красноречия: чтобы выпукло выразить один факт, мы неизбежно принижаем другой. По сути же я очень скромно оцениваю наше действительное знание. Послушайте шорох крыс за стенкой, поглядите на ящериц на изгороди, на грибы у дороги и лишайники на пнях. Что мы о них знаем – сочувственно или нравственно? Они, может, ровесники или старше самого «белого» человека, и нет свидетельств, чтобы между нами и ими когда-либо промелькнуло хоть слово или знак. Где в книгах связь между пятьюдесятью или шестьюдесятью химическими элементами и историческими эпохами? И что же записала история о метафизических летописях человека? Как она проясняет тайны, что мы скрываем под именами «Смерть» и «Бессмертие»? А между тем каждая история должна быть сотворена с мудростью, постигшей всю глубину наших связей, и видеть в фактах нечто символическое. Прискорбно смотреть, во что вырождается наша так называемая «История» – в жалкие сельские сплетни. Как часто приходится повторять: Рим, Париж, Константинополь! Но что Риму ведомо о крысах и ящерицах? К чему эти Олимпиады и консульства для тех жизней, что соседствуют с нами в ином измерении бытия? И какую пищу или утешение они несут эскимосу, охотящемуся на тюленей? Жителю полинезийского каноэ, грузчику, грузщику, носильщику?
Чтобы по-настоящему выразить нашу внутреннюю, всем родственную природу, а не продолжать старое летосчисление, выросшее на эгоизме и гордости, нам надо шире и глубже писать нашу летопись – начиная с нравственного возрождения, с притока вечной живой совести. Такой день уже настал для нас, он незаметно сияет в нас, однако путь науки и учёной словесности сам по себе не ведёт к природе. Слабоумный, дикарь, ребёнок, неучёный деревенский парень куда ближе к тому свету, которым надо читать природу, чем учёный анатом или антиквар.
Список некоторых работ об «Истории» Эмерсона
• Hoch, David G. «„History“ as Art: „Art“ as History.» ESQ (IV, 1972), 288—293.
• Stein, William Bysshe. «Emerson’s „History“: The Rhetoric of Cosmic Consciousness.» ESQ (IV, 1972), 199—206.
• Van Cromphout, Gustaaf. «Emerson and the Dialectics of History.» PMLA 91 (Jan 1976), 54—65.
• Steinbrink, Jeffrey. «The Past as „Cheerful Apologue“: Emerson on the Proper Uses of History.» ESQ 27 (IV, 1981), 207—221.
• Richardson, Robert D. «Emerson on History,» in Porte, pp. 49—64.
• Saum, Lewis O. «Emerson’s „History“: From Biography to Autobiography.» North Dakota Review 50 (Spring 1982), 45—55.
• Hutson, Richard. «Two Gardens: Emerson’s Philosophy of History.» In The Green American Tradition, ed. H. Daniel Peck, pp. 21—38. Baton Rouge: LSUP, 1989.
• Makarushka, Irena. «Emerson and Nietzsche on History: Lesson for the Next Millennium.» In Gregory Salyer & Robert Detweiler (eds.). American Academy of Religion Studies in Religion, 72. Atlanta, GA: Scholars, 1995, pp. 89—101.
• O’Keefe, Richard R. «The Rats in the Wall: Animals in Emerson’s „History“.» American Transcendental Quarterly 10:2 (June 1996), 111—121.
• Shuffelton, Frank. «Emerson’s Politics of Biography and History.» In Mott, 53—65.
• Friedl, Herwig. «Fate, Power, and History in Emerson and Nietzsche.» ESQ 43:1—4 (166—169) (1997), 267—293.
О проекте
О подписке
Другие проекты
