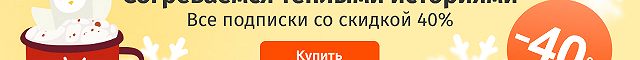
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
«Не ищи вовне себя самого.»
«Каждый сам себе светило, и душа, способная
Воплотить в человеке всю правду и чистоту,
Властно приказывает свету, влиянию, судьбе;
Для неё нет понятий «рано» или «слишком поздно».
Наши деяния – наши ангелы, добрые или злые,
Роковые тени, что всюду сопровождают нас.»
– Из эпилога к пьесе Бомонта и Флетчера Честное состояние человека
«Отбрось младенца на голые скалы,
Пусть волчица вскормит его,
Пусть он зимует рядом с ястребом и лисой,
И сила со скоростью станут ему руками и ногами.»
Недавно я читал стихи, написанные знаменитым художником. Они были свежи и оригинальны, не тонули в привычных шаблонах. Душа всегда улавливает в таких строках тихое, но твёрдое напутствие – как бы ни был обыден сюжет. Ценность тут не в самих мыслях, а в том чувстве, которое они пробуждают. Верить в собственную мысль, верить, что то, что истинно для тебя самого в глубине сердца, истинно для всех, – вот что такое гениальность. Озвучь свою неявную убеждённость, и она станет всеобщим чувством; ведь то, что сокрыто внутри, рано или поздно выходит наружу, и начальный наш помысел возвращается к нам гласом Страшного суда. Нам, каждому, до боли знакома своя собственная мысль, но величайшей заслугой Моисея, Платона и Мильтона мы считаем то, что они не слушали ни книг, ни традиции – они говорили не то, что «положено» людям, а то, что рождалось в их уме. Человек должен научиться узнавать и беречь тот луч, что вспыхивает внутри, ярче, чем сияние целого сонма поэтов и мудрецов. Но он обычно бездумно отмахивается от этой вспышки только потому, что она его собственная. А потом, встречаясь с поистине великим творением, мы вдруг узнаём в нём собственные некогда отброшенные мысли, вернувшиеся к нам в величественном, чуть ли не инопланетном обличье. Нет урока сильнее, чем этот, преподнесённый великими произведениями искусства: оставаться верным своему непосредственному впечатлению, когда весь мир гремит в противоположную сторону. Иначе завтра кто-то чужой, с поразительной ясностью и убедительностью, выскажет то самое, что мы давно думали и чувствовали; и нам придётся с досадой и стыдом признать собственную правоту, но услышанную уже от чужих уст.
В жизни каждого человека наступает момент, когда он постигает, что завидовать – бессмысленно, а подражать – равносильно гибели; он вынужден принять себя со всеми своими достоинствами и недостатками как собственную судьбу; что хотя вся вселенная полна благами, ему достанется только то зерно, которое вырастет на клочке земли, вручённом ему в пользование и возделываемом его же трудом. Сила, что живёт в нём, – нова для природы, и кроме него никто не знает, на что она способна, да и он сам не узнает, пока не попытается. Не случайно одно лицо, один характер, один факт глубоко западут ему в душу, а другой – нет. Эта избирательность в памяти не может быть без тайного соответствия. Глаз поставлен именно там, куда должен упасть тот единственный луч, чтобы свидетельствовать о нём. Мы сдержанно выражаем себя и стесняемся божественной идеи, которую в себе представляем. А ведь мы могли бы уверенно довериться тому, что она пропорциональна миру и принесёт хорошие плоды, если только мы передадим её честно, без страха. Но Бог не позволит, чтобы его труд проявлялся через трусов. Человек испытывает облегчение и радость, когда вкладывает в дело всю душу и делает всё, что может; но всё, к чему он прикасается без сердца, не даст ему покоя. Это кажущееся освобождение не освобождает. В такие минуты гений оставляет его: ни муза, ни вдохновение, ни надежда не придут на выручку.
Доверься себе: в груди каждого отзывается эта стальная струна. Прими то место, которое небесный промысл уготовал тебе, общество твоих современников и цепь событий. Так поступали великие люди, доверяя себя, по-детски открыто, гению своей эпохи, осознавая, что подлинная опора – у них в сердце, действующая через их руки, господствующая над всей их сутью. И мы тоже уже выросли, должны принять это возвышенное предназначение, а не оставаться недорослями и слабыми, прячущимися в защищённых уголках, не трусами, бегущими от бури перемен, а идти вперёд – в качестве вождей, освободителей, благодетелей, повинуясь всемогущему зову и побеждая Хаос и Тьму.
Сколько чудесных пророчеств природа даёт нам на эту тему – во взглядах и повадках детей, младенцев и даже животных! Их сознание не раздвоено, не бунтует само против себя, не умаляет свои чувства под предлогом «реальности» своих сил и средств. И поэтому в их глазах мы встречаемся с чем-то непобеждённым и чувствуем смущение. Младенчество ни под кого не подстраивается – все прогибаются под него, так что один малыш превращает в «нянек» сразу четверых или пятерых взрослых, щебечущих и играющих с ним. Так же Бог наделил юность и зрелость очарованием и силой, которые мы признаём и которым завидуем, если только эти возраста сами стоят на своей правде. Не думайте, что юноша бездеятелен только потому, что ему пока нечего сказать нам, старшим; прислушайтесь, как он общается со своими сверстниками – его голос звучит достаточно громко и отчётливо. Стыдливый он или дерзкий, он как-нибудь да сумеет обойтись без нас, увядающих.
Та небрежная уверенность мальчишек, которые точно знают, что ужин им обеспечен, – и которым, как и лорду, и в голову не придёт делать что-либо, чтоб угодить нам, – это здравая позиция человеческой природы. Мальчишка в гостиной подобен зрителю в театральном партере: независим, ни за что не отвечает, сидит себе в углу и оценивает всех, кто проходит мимо, – оценивает по быстрому, мальчишескому методу: хороший, плохой, интересный, глупый, красноречивый, надоедливый. Он не задумывается о последствиях и выгоде, а выносит неподкупный приговор. Хотите его расположения – извольте потрудиться; сам он ни к кому не набивается. Взрослый же как будто попадает за решётку собственного сознания: скажет или сделает что-то с блеском – и всё, он «упёк» себя во мнение толпы, которая теперь будет за ним следить, и её привязанности или вражда учтены в его расчётах. Забвения Леты тут не отыскать. Ах, если б можно было снова вернуться в состояние нейтральности! Тот, кто способен не давать обещаний и, наблюдая, наблюдать снова с такой же чистой, непредвзятой, неподкупной невинностью, всегда будет представлять внушительную силу. Его слова о любых делах, идущие не от личной корысти, а от внутренней необходимости, вонзаются, словно копья, в ухо людей и наводят на них страх.
Так звучат голоса, доносящиеся к нам в уединении, – но они становятся всё слабее и исчезают вовсе, едва мы погружаемся в общество. Ведь общество, где бы оно ни складывалось, действует заговором против человеческой зрелости каждого своего члена. Общество – это акционерное товарищество, где пайщики ради гарантии куска хлеба вынуждены пожертвовать свободой и внутренним развитием. Ценнейшая добродетель для него – это приспособление. Самостоятельность для него отвратительна. Ему не нужны реальные авторы и творцы, ему нужны имена да обычаи.
Кто хочет быть человеком, должен стать нонконформистом. Кто стремится к бессмертным венкам, не может отступать, услышав одно только слово «благодетель», а обязан сперва проверить, действительно ли это благо. Единственное, что по-настоящему свято, – целостность твоего собственного разума. Оправдайся перед самим собой – и получишь признание всего мира. Помню, когда я был юн, некто, дорожащий моим благом, донимал меня старинными церковными воззрениями. Я сказал: «Какая мне разница до святости традиций, если я живу целиком изнутри?» Мой собеседник возразил: «А если твои порывы – не свыше, а снизу?» – «Ну что ж, – ответил я, – если я дитя дьявола, значит, буду жить от дьявола.» Никакой закон не может быть для меня священен, кроме закона моей собственной природы. Понятия «хорошо» и «плохо» – это просто слова, которые легко менять местами. Единственно правильное – то, что созвучно моей природе; единственно неправильное – то, что ей противоречит. Надо держаться так, словно все звания и должности преходящи, а вечен только я. Стыдно, как легко мы капитулируем перед знаками и титулами, большими обществами и изжившими себя институтами. Любой приличный, хорошо говорящий человек воздействует на меня больше, чем должен. А надо бы идти прямо и жить полнокровно, говоря суровую правду во всех видах. Если злость и тщеславие завернутся в благотворительность, нам что, пропускать их беспрепятственно? Если заносчивый фанатик прикрывается бунтарским делом Отмены рабства и рассказывает мне последние новости с Барбадоса, отчего не сказать: «Иди люби своё дитя, люби своего дровосека, будь добродушен и скромен, обрети эту благодать; не прячь свою злобную, беспощадную амбицию за витиеватыми речами о сострадании к чёрным людям за тысячу миль отсюда. Твоя любовь к дальнему – это злость к ближнему»? Грубо? Да. Но правдивее, чем притворная нежность. Добродетель должна иметь свой острие, иначе её нет. Когда проповедь любви превращается в плаксивое хныканье, непременно нужно проповедовать «ненависть» – чтобы удержать равновесие. Я готов покинуть отца и мать, жену и брата, если голос моего гения зовёт. Я бы начертал на дверном косяке: «Каприз». Быть может, это в итоге окажется чем-то выше, чем просто каприз, но у нас нет времени всё объяснять. Не ждите, что я буду обосновывать, почему к одним людям я тянусь, а других сторонюсь. И не надо мне, как сегодня сделал один добрый человек, говорить, что я обязан пристроить всех бедняков в хорошие условия. Это не мои бедняки. Глупый ты филантроп, я и доллара, и цента жалею для тех, с кем не связан никакой духовной роднёй. Есть определённая группа людей, которым я принадлежу всем своим существом и которые принадлежат мне. Ради них я, если потребуется, пойду в тюрьму. Но все эти «народные» благотворительности, обучение пустоголовых в колледже, строительство самодовольных молелен, множество обществ «спасения»… Да, признаюсь, иногда я сдаюсь и даю доллар, и это дурной доллар, от которого я вскоре надеюсь отучиться, набравшись мужества.
С точки зрения толпы, добродетели – скорее исключения, а не правило. Есть «человек» и есть его «добродетели». Человек совершает добрый поступок, например, проявляет отвагу или жертвенность, – во многом так же, как платит штраф за то, что редко показывается на каких-то сборах. Его дела служат оправданием или смягчением вины за сам факт его жизни. Так, больные и умалишённые платят большие суммы за содержание. Их добродетели – это своёобразные покаянные практики. Я же не хочу каяться, а хочу жить. Пусть жизнь будет самой заурядной, лишь бы она была искренней и ровной, а не блестящей и рваной. Хочу, чтобы она была здоровой и чистой, не нуждаясь в принудительных диетах и кровопусканиях. Мне нужно главное подтверждение: ты человек, а не ссылка на твои поступки. Для меня лично неважно, совершаю ли я «образцовые» деяния или воздерживаюсь от них. Не могу согласиться платить за право, которое мне принадлежит от рождения. Пусть мои дары не слишком велики, но всё же я есть – и мне не нужно косвенных доказательств ни для себя, ни для окружающих.
Всё, что я обязан делать, – это то, что касается меня одного, а не то, что одобряют люди. Эта максима, одинаково строгая и для практической, и для интеллектуальной жизни, определяет разницу между «великим» и «малым». Особенно это нелегко, потому что всегда найдутся те, кто считает, будто лучше меня знает, в чём мой долг. В обществе легко жить по его правилам; в уединении легко жить по собственным; но велик тот, кто в гуще толпы сохраняет милую сердцу независимость уединения.
Основная беда в том, что следование тем обычаям, которые для тебя давно умерли, растрачивает твою энергию. Теряется время и стирается чёткий отпечаток твоего характера. Если ты поддерживаешь церковь, где давно нет жизни, или вносишь деньги в библейское общество, которое исчерпало себя, если голосуешь за крупную партию – за правящую или оппозиционную, или накрываешь стол, как принято у всякой мелкой буржуазии, – сквозь все эти «завесы» мне трудно разглядеть, каков ты на самом деле. И, конечно, так ты отвлекаешься от своей настоящей жизни. Но если ты займёшься своим делом, я тут же узнаю, кто ты. Займись делом, и ты сам укрепишься. Нужно понимать, какая это слепая игра – жить в рамках согласия с чьими-то «принятыми» догмами. Если я знаю, к какому сектантству ты принадлежишь, я наперёд могу сказать, какую речь ты произнесёшь. Услышав проповедника, выбравшего для «текста и темы» что-нибудь «в духе» заведённой в его церкви практики, разве я не предвижу, что он не скажет ничего действительно нового и живого? Разве не ясно, что, делая вид, будто анализирует какие-то основы, он на самом деле даже не собирается это делать? Разве не очевидно, что он сам связал себе руки и смотрит только с одной разрешённой стороны – не как мыслящий человек, а как приходской служитель? Его манерность, напоминающая независимую позицию судьи, – всего лишь пустое притворство. Но так поступают многие: повязывают себе на глаза чью-то повязку, чтобы видеть одну выбранную общину мнений. Это согласие делает их не просто неискренними в нескольких деталях, а лживыми во всём. Каждая их правда уже не вполне правда. Их «два» – это не настоящее «два», а «четыре» – не настоящее «четыре». И каждое их слово вызывает у нас досаду, и мы теряемся, с чего бы начать их «исправлять». Тем временем природа без промедления облачает нас в «тюремную робу» той партии, к которой мы примкнули. Мы приобретаем один тип выражения лица и телосложения, шаг за шагом заползая в самодовольную «ослиную» манеру. Есть один унизительный опыт, который потом отражается и в истории: «тупая улыбка одобрения», которой мы удостаиваем собеседника в компании, где не чувствуем естественного интереса. Мышцы лица двигаются не сами по себе, а «из-под палки» нашей вежливой воли, и это даёт самое неприятное ощущение.
За нонконформизм мир наказывает недовольством. Значит, нужно уметь оценивать хмурое лицо прохожего. Люди смотрят косо на тебя и на улице, и в гостиной у твоего друга. Если бы их враждебность происходила из такой же внутренней борьбы и сопротивления, что и у тебя, ты мог бы уйти домой с тяжёлым сердцем. Но тут всё гораздо поверхностнее: грубые или сладкие выражения лица они принимают и снимают по велению ветра или газет. И всё же возмущение толпы страшнее, чем неудовольствие сената или учёного совета. Человеку твёрдому, знакомому с мирскими нравами, нетрудно вынести бешенство «образованных» – оно аккуратное и осторожное, ведь сами эти люди уязвимы. Но если к их «женской злобе» прибавится гнев черни, когда поднимаются в негодовании невежественные массы, неосознанная грубая сила, лежащая на дне общества, начинает рычать и скалиться, то тут уж потребуется божественное величие души и искреннее благочестие, чтобы относиться к этому, как к пустяку.
Ещё один ужас, отгоняющий нас от веры в себя, – это мнимое «постоянство», которому мы рабски покоряемся из страха противоречить самим себе. Ведь окружающие не знают о нас ничего, кроме того, что мы уже сделали или сказали, – и мы не хотим разочаровывать их, отступаясь от прежних слов или поступков.
Но зачем нам всё время «оглядываться через плечо»? Зачем таскать за собой труп собственной памяти, чтобы, упаси бог, не попять что-то, сказанное в общественном месте? Ну и пусть я сам себе противоречу – что из того? Ведь, кажется, самое мудрое правило – не полагаться на одну лишь память, даже в простых воспоминаниях, а подвергать всё прошлое суду этого тысячеглазого настоящего, жить всегда в новом дне. Скажем, в своих метафизических рассуждениях ты отрицал личностный облик Божества, а если вдруг в душе поднимаются святые движения, почему бы не отдаться им всем сердцем и жизнью – пусть они и наделяют Бога формой и окраской? Оставь свою теорию, как Иосиф бросил одежду в руках блудницы, и беги прочь.
Глупая последовательность – пугало для слабых умов, кумир для мелочных политиков, философов и проповедников. Большая душа не имеет с этим делом. Что толку заботиться о тени на стене? Говори сегодня то, что думаешь прямо сейчас, пусть это звучит резко; завтра скажи то, что завтра сочтёшь верным, – пусть опять в резких словах, пусть оно всё противоречит сказанному накануне. – «О боже, тебя же неправильно поймут!» Ну и что? Это так плохо – быть непонятым? Пифагора неправильно понимали, Сократа, Иисуса, Лютера, Коперника, Галилея, Ньютона – всякого, чей дух оставался чист, мудр, и кто воплотился в нашей плоти. Быть великим – это быть непонятым.
Кажется мне, никто не способен нарушить свою глубинную природу. Все порывы воли ограничены законом нашего бытия, словно все бугры и провалы Анд или Гималаев теряются в линиях земной сферы. И не важно, как его мерить. Характер подобен акростиху или александрийскому стиху: читай его вперёд, назад или по диагонали, всё равно прочтёшь то же самое. В этой мирной и покаянной жизни среди лесов, которую Бог мне позволил вести, пусть я каждый день записываю свою подлинную мысль, не заглядывая ни вперёд, ни назад, – думаю, в итоге окажется, что всё это взаимосвязано, даже если я не пытаюсь и не вижу этого. Пусть в моей книге ощущается запах хвои и жужжание насекомых. Пусть ласточка, вьющая гнездо за моим окном, вплетёт в мою ткань ту соломинку, что носит в клюве. Мы являемся тем, что мы есть; наш характер учит громче наших намерений. Люди думают, что передают свою добродетель или порок лишь поступками, но они не замечают, что их нравственность или безнравственность непрестанно испаряются и ощущаются, словно аромат или яд.
Если наши действия честны и естественны в тот момент, когда мы их совершаем, между ними непременно установится согласие, сколь бы они ни казались разными. С высоты мышления видна их общая тенденция. Курс лучшего корабля – это ломаная линия из сотни галсов; если взглянуть на неё издалека, она выпрямится и покажет свою среднюю цель. Подлинное, искреннее деяние объяснит само себя, объяснит и прочие наши подлинные поступки. Конформизм же ничего не разъясняет. Действуй самостоятельно, и тогда то, что ты уже делал самостоятельно, оправдает тебя в настоящем. Великие души обращены в будущее. Если я сейчас достаточно твёрдо сделаю правильный шаг, плевать на чужое осуждение, – я, значит, и раньше уже столько раз поступал так же, что теперь меня это только укрепит. Как бы ни обстояли дела, делай сейчас правильно. Всегда презирай пустые «видимости», и тогда можешь это делать безбоязненно. Сила характера накапливается. Все добрые дни прошлого вливают свою оздоравливающую силу в настоящее. Что придаёт величавость героям парламента и поля битвы, почему они так будоражат наше воображение? Сознание целой череды славных вчерашних дней и побед. Они словно окружают действующего героя единой аурой. Кажется, его сопровождает целый полк ангелов. Вот откуда гром в голосе Чатема, благородство в облике Вашингтона и целая Америка во взгляде Джона Адамса. Честь внушает нам почтение, потому что она не явление сиюминутное. Она всегда воплощает древнюю доблесть. Мы чтим её сейчас потому, что она не пытается заискивать перед нами, а самодостаточна, исходит из самой себя, носит древнейшую и несомненную родословную – даже если проявляется в молодом человеке.
О проекте
О подписке
Другие проекты