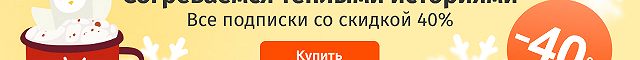
История, как и природа, являет нам нерасторжимое внутреннее единство при очевидном внешнем многообразии. На поверхности – бесконечное разнообразие вещей, а в глубине – простота причины. Мы легко узнаём один и тот же характер в самых разных поступках одного человека. Приглядимся к тому, как мы познаём греческий гений: у нас есть летопись этой цивилизации в трудах Геродота, Фукидита, Ксенофонта и Плутарха – подробные рассказы о том, какими были эти люди и что они делали. Но затем тот же народ говорит с нами снова в своей литературе: в эпосах, лирике, трагедии и философии – и это уже иная, но столь же полная форма самовыражения. И опять в их архитектуре – в этой стройной, словно сама умеренность, геометричной красоте, которая стала осязаемой математикой. И вновь – в скульптуре, где мы видим бесчисленные фигуры в абсолютной свободе движения, не переступающей, однако, порога идеальной сдержанности: будто хористы совершают священный танец перед богами; даже если ими владеет агония боли или ярость смертного боя, они всё равно соблюдают величественный рисунок и ритм. Так гений одного блистательного народа явлен нам в четырёх ипостасях – в истории, литературе, архитектуре и скульптуре. Что может быть внешне непохожее, чем ода Пиндара, статуя кентавра, колоннада Парфенона и последние деяния Фокиона?
Каждый замечал лица и фигуры, которые, не имея явного сходства черт, производят на нас очень похожее впечатление. И бывает: некий пейзаж или стихи, даже не вызывая той же цепочки образов, всё равно рождают в нас схожее чувство, будто мы гуляем по диким горам; хотя разум не видит прямого сходства, оно существует где-то за пределами логики. Природа – это бесконечная комбинация и повторение нескольких очень простых законов. Она повторяет один знакомый мотив в неисчислимых вариациях.
Во всех творениях природы мы видим это величественное семейное сходство; ей доставляет удовольствие внезапно раскрывать его там, где мы и не ждём. Однажды я видел голову старого индейского вождя – она тотчас напомнила снежную вершину горы, а глубокие складки на лбу повторяли слои каменных пород. Бывают люди, чьи манеры несут то же величавое и простое благородство, что грозные барельефы на фризах Парфенона и древнейших памятниках греческого искусства. И во все времена находились произведения, в которых звучит эта же внутренняя мелодия. Посмотрите на знаменитую «Аврору» Гвидо Рени: это всего лишь утренний миф, кони в ней – не что иное, как утренние облака. Любой, кто порадуется выяснить, каким разнообразным делам мы готовы отдаться в одном состоянии ума и к каким мы непримиримы, увидит, до какой степени глубока эта цепь родства.
Один художник говорил мне, что невозможно изобразить дерево, не став на некий лад самим деревом; невозможно точно нарисовать ребёнка, если лишь копируешь его контуры, – нужно некоторое время наблюдать за его движениями, повадками, «вжиться» в его натуру, и тогда сумеешь запечатлеть его в любом положении. Так и художник Роос говорил о том, что «проникает в самую душу овцы». Я знал одного топографа, который не мог набросать форму горных пород, пока ему не объяснили их геологическое строение. Иногда общее состояние мысли лежит в основе самых разных проявлений. Не факт тождествен, а дух. Через более глубокое восприятие, а не только путём долгих технических навыков, художник достигает силы зажигать в других душах нужные образы.
Как-то сказали: «Заурядные натуры платят тем, что они делают, а более благородные – тем, что они есть». И почему? Потому что многослойная, глубинная сущность одними лишь своими словами, поступками, взглядами, манерами вызывает в нас ту же красоту и мощь, что и созерцание огромного собрания скульптур или картин.
Любая история – гражданская, естественная, история искусства или литературы – должна быть объяснена исходя из истории отдельной личности, или она так и останется набором мёртвых слов. Нет ничего, что не было бы нам родственно; нет ничего, что не трогало бы нас: от королевства до подковы на лошади, от университета до ветки дерева, – корни всего находятся в человеке. Базилика Санта-Кроче или Собор Святого Петра – всего лишь неуклюжие подражания некоему божественному образцу. Страсбургский собор – материальное отражение души его творца, Эрвина фон Штайнбаха. Настоящая поэма – это ум поэта, истинное судно – душа кораблестроителя. Загляни в глубь человека – и ты поймёшь, почему его работа оформлена так, а не иначе: как каждая рифлёная кромка или цветовая пядь в раковине изначально заложена в организме рыбы. Вся символика гербов и рыцарства сводится к чувству учтивости. Благородный человек одним лишь произнесением вашего имени придаст ему большую выразительность, чем любые титулы знати.
Наш повседневный пустячный опыт непрестанно подтверждает когда-то услышанные пророчества, воплощая в реальность знакомые слова и знаки, на которые мы не обращали внимания. Как-то, ехав через лес, я услышал от спутницы, что деревья будто бы замирают в ожидании, словно лесные духи приостанавливают свою работу, пока путник не отъедет подальше. Поэты пишут о танце фей, что обрывается, когда слышны шаги человека. И кто видел, как в полночь луна вдруг выходит из-за облаков, тот словно свидетельствовал рождение света и мира. Я помню летний день: мы шли по полю, и мой спутник указал на широкую тучу, тянувшуюся параллельно горизонту, – она была невероятно похожа на херувима из церковной росписи, словно кто-то оживил круглящийся «корпус» и расправил симметричные крылья. Раз такое увиделось в небе однажды, значит, оно может повториться, и вполне возможно, что именно это явление и вдохновило древнего художника. Однажды в извилистой молнии, промелькнувшей в летнем небе, я вдруг ощутил, как точно древние греки подметили природу молнии в руке Зевса. А снежные заносы вдоль каменной стены сразу напомнили мне о классическом завитке, с помощью которого часто оформляют угол башни.
Если бы мы сами окружили себя первозданными условиями, мы бы заново изобрели ордера и украшения архитектуры, как только поймём, что любой народ, в сущности, лишь украсил своё первое жилище. Дорический храм сохраняет вид деревянной хижины, где селился дориец. Китайская пагода – бесспорно, наследница кочевой палатки. В индийских и египетских святилищах сквозит форма насыпей и подземных жилищ их предков. «Обычай высекать жилища и гробницы прямо в скалах, – пишет Хирен в своих исследованиях об эфиопах, – вполне естественно придал нубийско-египетскому зодчеству колоссальный размах: ведь здесь, где глаз привык взирать на огромные природные полости, всё, созданное человеком, без грандиозных масштабов выглядело бы унизительно мелким. Что значат статуи привычных размеров, милые портики или изящные пилоны перед исполинскими залами, у порога которых только колоссы могут сторожить вход, а внутри опираться о гигантские колонны?»
Готическая церковь, по всему видно, берёт исток в простом подражании лесному своду деревьев с их ветвями, перекинутыми аркой для какого-нибудь торжественного шествия. Обвязки на «расколотых» колоннах в храме до сих пор похожи на зелёные ветви, которыми их связывали. Никто не пройдёт по дороге, прорубленной сквозь сосновый бор, чтобы не поразиться «архитектурному» виду этого пространства, особенно зимой, когда все прочие деревья стоят голыми, а сосны сомкнутся над головой, образуя невысокую «саксонскую» арку. В сумерках зимнего леса легко увидеть вдохновение для цветных витражей готического собора – это образы западного неба, проступающего сквозь переплетения голых ветвей. И разве любой, кто любит природу, войдя в древние постройки Оксфорда или английские соборы, не почувствует, что там дух леса одержал верх над умом зодчего, а его резцы, пилы и рубанки лишь воспроизвели мотивы папоротников, цветущих стрел, лик полыни, вяза, дуба, сосны, ели и пихты?
Готический собор – это каменный цветок, распускающийся под неустанной жаждой гармонии в человеке. Гора гранита зацветает вечным цветком, и в этом камне мы видим и воздушную лёгкость, и утончённую отделку, и ясную перспективу, свойственные красоте растений.
Так же, как мы должны обобщать личное, а общее придавать личностному звучанию, – только тогда История обретается текучей и истинной, а Биография глубокой и величественной. Подобно тому как в архитектуре персы, создавая стройные колонны и капители, вдохновлялись стеблями лотоса и пальмы, так и их великолепный двор оставался кочующим, перенимая привычки диких племён: весну проводили в Экбатанах, лето – в Сузах, а зиму – в Вавилоне.
В ранней истории Азии и Африки два противоположных начала – кочевье и земледелие. Климат и рельеф этих материков вынуждали народы к перекочёвкам, а осевшие, пользуясь плодородием почвы или выгодой торговли, строили города и боялись нападений кочевников. Отсюда земледелие становилось религиозным долгом, чтобы удерживать народ от опасной бродяжьей вольницы. И поныне в цивилизованных Англии или Америке эти инстинкты продолжают стародавний спор и в общественной, и в частной жизни. Кочевников Африки гнали с пастбищ бешеные оводы, загонявшие скот в безумство, и племена спасались бегством в засушливые высокие районы. Кочевники Азии странствовали в поисках пастбищ. В Европе и Америке кочевничество стало «торговым» или «познавательным» – это, конечно, прогресс по сравнению с оводами из Астабораса, но всё ещё остаётся mania путешествий – то ли англо-, то ли италофилия. Священные города, паломничество к которым предписывали обычаи и законы – вот что сдерживало древних кочевников. А сегодня много лет накопленных ценностей и удобств оседлой жизни сдерживают нашу тягу к странствиям. Борьба двух влечений – к движению и покою – не менее сильна и в душе каждого человека, поскольку у одного верх берёт жажда приключений, у другого – любовь к покою. Человек крепкого здоровья и широкой натуры легко приживётся где угодно – живёт в повозке и свободно кочует по всем широтам, как калмык. На море, в лесу, на заснеженных просторах – ему всюду достаточно уютно, он ест с аппетитом и просто радуется жизни. А может, и в глубине его ума есть способность видеть интерес повсюду, при встрече с любым новым явлением. Кочевники прошлого были голодны и бедны до отчаяния. Умственное «кочевничество», доведённое до крайности, тоже разоряет дух, распыляя его на все стороны. Тот же, кто «хранит дом», обретает некую «целомудренность» и довольство, находя в своей земле все элементы существования. Но и это влечёт опасность однообразия и упадка, если не вносить внешних освежающих струй.
Каждый предмет, который человек видит вовне, соотносится с его состоянием ума; и каждый предмет по очереди становится ему понятен, когда его собственная мысль расцветает истиной, к которой этот факт или явление принадлежит.
Первозданный мир, как говорят немцы – Urwelt, я могу постичь внутри себя, не только рыща по катакомбам и развалинам дворцов, не только листая архивы и фрагменты статуй.
В чём же корень всеобщего интереса к греческой истории, литературе, искусству и поэзии всех эпох – от Героического или Гомеровского века до быта афинян и спартанцев четырьмя или пятью веками позже? Просто потому, что каждый из нас проходит в своей жизни «греческий период». Греческий строй – эпоха телесности, совершенство чувств, при котором духовное естество развёртывалось в неразрывном союзе с телом. Вот откуда брали образы Геракла, Феба и Зевса скульпторы, а не из толпы современных улиц, где лица – неясное смешение черт. Те же греческие лица были ярко очерчены, пропорциональны, с такими глазницами, что глаза не могли бы бегать украдкой по сторонам – им приходилось поворачивать всю голову. Нравы той эпохи просты и суровы. Почитание оказывалось личным качествам – смелости, ловкости, самообладанию, справедливости, силе, быстроте, громогласности, широкой груди. Роскоши и утончённости они не знали. Скудность населения и нужда делали каждого и собственным слугой, и поваром, и мясником, и солдатом, и эта привычка самому себя обеспечивать вырабатывала поразительные способности тела. Таковы Агамемнон и Диомед у Гомера; и примерно ту же картину рисует Ксенофонт о себе и своих соратниках в «Анабасисе»: «Когда войско переправилось через Телебой в Армении, выпало много снега, и солдаты спали прямо на обледенелой земле. Но Ксенофонт встал, не имея на себе ничего, кроме собственной шкуры, взял топор и начал рубить дрова. И тут другие тоже встали и поступили так же». Во всём его войске царит ничем не стеснённая свобода высказываний. Они ссорятся из-за добычи, бранятся с начальством при каждом новом приказе; и сам Ксенофонт не отстаёт в горячности. Разве не видим мы в них компанию здоровых крепких парней, у которых кодекс чести и дисциплина – ровно такие, какие бывают у мальчишек?
Очарование древней трагедии, как и всей старой литературы, в том, что герои говорят прямо – говорят как люди, обладающие здравым смыслом, но не сознающие этого, ещё до того, как рефлексия стала основным занятием ума. Мы восхищаемся античностью не потому, что она стара, а потому что она естественна. Греки почти не предавались рефлексии, зато они были совершенны в своих чувствах и здоровье, будучи лучшими «физическими организмами» мира. Взрослые у них действовали с простотой и грацией детей. Они создавали такие вазы, трагедии и статуи, какие и должны возникать при здоровых ощущениях и хорошем вкусе. Подобные вещи и ныне рождаются повсюду, где встречается чистое телесное здоровье; но по превосходству своей организации древние греки сделали нечто особенное, объединив энергию зрелости с милой непринуждённостью детства. Их быт притягивает нас тем, что в нём узнаётся человек как таковой, мы видим в них то, чем были все мы, будучи детьми; и всегда найдутся люди, несущие эти черты и сегодня. Тот, кто от природы обладает детской непосредственностью и сильным характером, – по сути, грек и оживляет в нас любовь к Элладской музе. Я восхищаюсь гимном к природе в трагедии «Филоктет». Читая эти прекрасные воззвания к сну, к звёздам, к скалам, горам и волнам, я чувствую, как время отступает, словно утекающий прилив. Я ощущаю вечность человека, узнаю родство наших мыслей. Оказывается, греки были окружены теми же явлениями, что и я: солнце и луна, огонь и вода касались их душ ровно так же. И тогда много расхваленная разница между греческой и английской культурой, между классическим и романтическим стилем выглядит надуманной и педантичной. Когда мысль Платона загорается во мне, когда та же истина, что воспламенила душу Пиндара, воспламеняет мою, – времени не существует. Я понимаю, что мы с ними встретились на одном уровне восприятия, и наши души слились в один поток, тогда зачем мне считать градусы широты? Зачем мне считать египетские столетия?
Ученик нашего времени истолковывает век рыцарства, оглядываясь на свой собственный «рыцарский» период. Историю мореплаваний и кругосветных открытий – через свои личные, хоть и крошечные, походы за новизной. Тот же ключ действует и для «священной истории» мира. Когда из глубины древности звучит голос пророка, и он словно перекликается с ощущениями твоего детства, с мольбами твоей юности, ты сквозь обрывки предания и обрядовую громоздкость видишь живую истину.
Иногда к нам приходят редкие, неистовые умы, которые открывают новые стороны в природе. И с давних пор бывали на свете люди божьи, несшие своё послание, которое находило отклик даже у самого простого слушателя. Оттого мы и слышим о треножниках, пророках и жрицах, которым дан был божественный дар.
Для людей, живущих чувственными желаниями, Христос ошеломителен и непостижим. Они не умеют вписать Его в историю, не в силах согласовать Его с собой. Но стоит им возжелать жизни чистой, прислушаться к своим внутренним озарениям, – и их собственное стремление к святости всё объяснит, каждую деталь, каждое слово.
Как легко при этом воспринять «древние верования» Моисея, Зороастра, Ману, Сократа в собственном уме! Я не вижу в них седой старины. Они принадлежат мне так же, как им самим.
И первых монахов, анахоретов можно встретить, не покидая своей эпохи и не пересекая морей. Не раз я видел человека, чья внешняя отрешённость от всякого труда и властная сосредоточенность мысли делали его горделивым «подаяльщиком имени Божьего», и тем самым он вполне мог бы оказаться Симеоном Столпником XIX века, живым воплощением Фиваидской пустыни или первых капуцинов.
И восточное, и западное жречество – магов, брахманов, друидов, инков – всё это расшифровывается нашей личной жизнью. Жёсткий формалист, который в детстве подавлял вас, не давал вам смелости и свободы, сковывал разум и внушал не протест, а лишь страх и повиновение, да ещё и некое сочувствие к его власти, – всё это можно понять, лишь осознав, что он сам – ребёнок, над которым царили лишь некие имена, слова и правила, и он был всего-навсего орудием их влияния на нас. И это даёт нам более ясное представление, как люди поклонялись богу по имени Бел и как они строили пирамиды, чем расшифровка Шампольона, определившего имена их работников и стоимость каждого кирпича. Тут у нас, под боком, и Ассирия, и холмы Чолулы, а сами мы заложили эти «рядами камней».
В каждом обдуманном восстании против суеверий своей эпохи мы понемногу повторяем путь древних реформаторов и обнаруживаем, какие искушения подстерегают добродетель на этом пути. Вновь надо учиться тому, какой моральный порыв требуется, чтобы поддержать некое суеверие. Велика распущенность, которая идёт по пятам у реформы. Сколь часто в истории случалось, что Лютер своего времени горевал об утрате благочестия в собственном окружении! «Доктор, – говорила как-то жена Мартина Лютера, – как же так: под папской властью мы молились часто и пылко, а теперь – холодно и редко?»
Человек, делающий шаг вперёд, открывает, насколько глубоко он связан со всей литературой – и мифической, и исторической. Он понимает, что поэт – не чудной чудак, описывающий странные и невозможные ситуации, а голос универсальной души, что пишет через его перо всеобщую исповедь, одинаково искреннюю для каждого. В великих строчках, записанных ещё до его рождения, он узнаёт собственную тайную биографию. Ступень за ступенью он натыкается в своей судьбе на сказки Эзопа, Гомера, Хафиза, Ариосто, Чосера, Вальтера Скотта и подтверждает их собственной головой и руками.
О проекте
О подписке
Другие проекты
