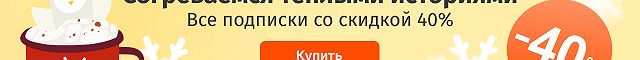
Насколько я понял и насколько чувствую, отец мой был не то что негодяем или подлецом, он просто оказался несерьёзным человеком, балаболом. Носил он очень громкую в прошлом, а в будущем ещё более оглушительно громкую фамилию – Гагарин. Но, несмотря на свою старинную аристократическую фамилию, пахал он простым шоферюгой, образование имел семь классов и, главное, нисколько не тяготился своей темнотой. О внешности его судить мне трудно, портретов не сохранилось, знаю только по рассказам матери, что был Александр Гагарин улыбчив, как его космический однофамилец, балагурить любил, поплясать и клюкнуть по любому поводу. Ещё можно предположить, что на лицо папаша наш уродом не был, ибо мы с Любой – да простит мне Всевышний за нескромность – внешностью людей не отпугиваем.
Анна Николаевна сошлась с Гагариным, надо полагать, от отчаяния. Только что свалившаяся свобода от родительского догляда обернулась одиночеством, катаклизмы с коротким величием и оглушительным падением по служебной лестнице и, наконец, новые каторжные медвежьи места, оглушившие поначалу молодую женщину угрюмостью и замкнутостью аборигенов – всё это споспешествовало тому, что в одну семейную телегу впрягла Судьба коня и трепетную лань.
Уж как они там жили – Бог весть. Можно ли вообразить их семейные вечера во вьюжные тоскливые зимы – тогда ведь телеящиков да магнитофонов не водилось, одна чёрная тарелка на стене, да и та при малейшем ветре давилась, хрипела и умолкала вовсе. О чём они могли разговаривать-беседовать? Ну разве что примерно так:
Анна Николаевна. Как воет ветер… А знаешь, Саш, в его вое и свисте слышится музыка. Слышишь? Слышишь?
Гагарин. Ха, музыка! Волчий вой я слышу.
Анна Николаевна. (Закрывая глаза, кутаясь в шаль). Да-а-а… Помню, в Большом смотрела «Щелкунчика» – это балет такой, Петра Ильича Чайковского. Там одно место чудное есть, музыка такая… Вот сейчас словно звучит она…
Гагарин. (Хмыкая, утирая покрасневший нос – он только что хватанул стакан первача у старухи-соседки, дров ей полный кузов притартал). По такой ветрюге даже по большаку опасно ехать… У меня сёдни скат чуть-чуть не хекнул. Вот так посреди дороги застрянешь и – каюк…
Анна Николаевна. В Большой так трудно всегда было попасть…
Гагарин. Если с собой запаски нету, считай – мандец тебе пришел…
И так далее, и так далее.
Но, как бы там ни было, а просуществовала странная семья Гагариных-Клушиных четыре с лишним года, пока окончательно и полностью не распалась. Анна Николаевна забрала свою исконную фамилию, дочку с сыном, два фибровых чемодана с тряпьём и – в путь. Никогда в жизни больше муженька своего бывшего она не видала, от писем и алиментов наотрез отказалась и даже вспоминала о той поре своей жизни с неохотой, досадой – скупо. И вот такой штришок: как-то, в пылу нашего с нею раздора, в грохоте словесной перепалки у матери моей вырвалось остро кольнувшее меня признание:
– Хотела я, ох хотела тогда избавиться от тебя! Хотела… Знала уже, что не буду с Гагариным жить. Да врач не решился – поздно уже, говорит. А – хотела…
Что ж, тем более благодарен я Господу нашему, всё же даровавшему мне жизнь. Цепь случайностей замкнулась, и я появился на свет. Даже вот получается вопреки воле матери.
Общепринято считать: ребёнок без отца – существо несчастное. Ну уж вздор так вздор! Я лично во всю мою жизнь ни разу – могу поклясться кем и чем угодно! – ни разу не пожалел о своей безотцовщине. Может, потому, что видел и наблюдал, каковы отцы у моих приятелей (то-то завидовать было нечему!); к тому ж без отца ощущал я свою свободу, свою независимость остро и сладко. Помню, смотрел я однажды в театре спектакль под названием «В графе “отец” – прочерк», где вся интрига строилась на муках парнишки, росшего без отца: вот уж я всхохотнул сначала, а потом и вовсе из зала ушел – кисельная, паточная белиберда…
А подалась из Алек-Завода Анна Николаевна в посёлок со странным экзотическим названием Калангуй – это там же, в Читинской области. Место это примечательно для меня особенно тем, что именно в Калангуе я действительно и уже полностью родился на свет. То есть впервые увидел себя в мире, мозг мой младенческий зафиксировал самое первое воспоминание. А именно с первого воспоминания и начинается гомо сапиенс, начинается его осмысленная жизнь. Приехали мы в Калангуй, когда мне стукнуло чуть более двух лет и уехали через два года. Значит, где-то в три, примерно, года и вспыхнула точка-воспоминание в моем мозгу, точка отсчёта судьбы. И помогла ей, этой точке, вспыхнуть моя сестричка Люба.
Однажды в летний парной день – только-только смочил посёлок обильный грозовой дождь – Любка заглянула в комнату (мы обитали в длинном приземистом доме барачно-коммунального типа) и поманила меня таинственно пальцем:
– Саса, посли, сё-то зутко интересное показу.
Коварная сестра моя щеголяла в ту пору отсутствием передних зубов и вследствие этого шикарно шепелявила. Я, заинтригованный, поспешил за ней на мокрую вымытую улицу. Сестрёнка подвела меня к телеграфному столбу, который был прикручен к подпорке двумя жгутами проволоки. Люба глянула в самую мою замершую в ожидании чуда душу и заговорщицки прошептала:
– Возьмись лукой за пловолоку и увидис скаску волсебную-волсебную…
Я немедля схватился за мокрый металлический жгут и, действительно, в тот же миг увидел «скаску зутко волсебную» – меня так шандарахнуло током, что я отлетел шагов на пять, кувыркнулся и заревел благим матом. Любка струхнула, кинулась ко мне, схватила в охапку и сама заревела-занюнила, приговаривая:
– Сто ты! Сто ты, Саса! Я зе посутила!..
Я вижу, вижу: я – маленький, пухлявый, в рубашонке с горошком, в чёрных сатиновых трусишках, в сандалетиках, сижу в луже, размазываю грязь и слёзы по мордахе; на крыльце барака застыла моя мама, выскочившая узнать, какая там беда с сыном стряслась, а Любка улепётывает, сверкая голыми пятками, за угол, в надежде избежать трёпки за свою дурацкую и жестокую «сутку». Я вижу отчётливо того обиженного карапуза, сидящего в луже и басом апеллирующего к материнской жалости, это – я. А карапуз, тот я, не видит меня сегодняшнего сквозь страшенную толщу времени, сквозь тридцать пять бесконечных лет, и не подозревает, какие шутки жизненные придётся ему ещё испытать, дабы очутиться, уже уставшим, с пробивающейся сединой, за тыщи километров от Калангуя и вспоминать тот мокрый сверкающий день лета 1956 года, того невинного смешного пацанёнка, впервые увидевшего окружающий мир, и мир этот запечатлелся в сердце, впечатался в мозг жестоким ударом тока.
О проекте
О подписке
Другие проекты
