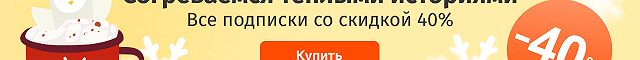
Минуту, вторую, тягучую третью борется с собой Аня, давясь слюной, сжимая в кулачонке остатние гроши. Увы, не Зоя Космодемьянская, не Жанна д’Арк – шагнула в пахучий сладкий рай, вцепилась в кулёк с халвой, здесь же, в уголке за зеркальной колонной, закрыв глаза, жуёт, пристанывает. И совсем ей в ту секунду не хочется думать о скором неизбежном похмелье голода после сладкого восточного кутежа…
И опять подчеркну: мать моя и студенческие годы вспоминала всегда умильно, со вздохом сожаления о неповторимости того времени. Ведь жили же, жили, чёрт возьми! Ведь бегали через мост в парк Горького кататься на коньках – это ли не праздник? Ведь влюблялись девчонки-студентки и на свиданки бегали, наряжаясь по очереди в чей-то шикарный, по их меркам, жакет. Ведь целовалась матушка моя в студенчестве под московским небом с каким-то там юным строителем коммунизма и однажды даже чуть было всерьёз не влюбилась, да вот незадача: красавец-то красавец парень, а театр не любит, оперу презирает, а балет и вовсе считает за декадентское вражеское искусство. Недаром при всей мужественной красоте этого широкоплечего комсомольца лобик у него подкачал, не вырос, был дебильно-узким – точь-в-точь, как у питекантропа.
Не сложилась любовь, не выпелась и – слава Богу. Представить моего папашу узколобым – весёленького мало. Да и времени тогда у Ани для любви, свиданий, фиглей-миглей много ли оставалось? Она и в столице училась от души. И мудрёного в том нет, что перед распределением ей предложили: хотите стать переводчицей, остаться в Москве? Шёл 1940-й год, уже слышалось-ощущалось, как пишут наши романисты-эпики, дыхание войны…
Если бы я, сегодняшний, каким-то чудесным образом оказался в тот момент при том разговоре, я бы затаил дыхание: ну, ну же – соглашайся! Стать москвичкой, обеспечить детям своим статус москвичей – ну, ну же! Вы попробуйте, втолкуйте мне, что если бы мать моя в 40-м году осталась в столице, меня-то, лично меня ведь на свете не было бы, у Анны Николаевны росли бы другие дети… А мне всё равно обидно и жалко, что она тогда отказалась. Отказалась наотрез.
А отказ её объяснялся весьма прозаически – страх. Нет, не страх войны и перспективы попасть на фронт (всё ж так реально в угрозу войны отдельный человек мало тогда верил, замороченный газетными всхлипами и кликами по поводу великой дружбы с Германией), а страх за один пунктик в своей биографии. Каким-то чудом клеймо «дочь врага народа» не слишком отчетливо проштемпелевалось в её документах и в её судьбе. Может быть, Николая Николаевича, отца её, не успели в тюрьме заклеймить окончательно врагом рабочих и крестьян, как он уже поспешил помереть от «сердечного приступа». Однако ж, мать моя всё время помнила, что она дочь репрессированного, и догадывалась: если даст согласие идти в переводчицы, её биографию перелопатят вдоль и поперёк. Всплывёт ещё и подозрительный эпизод с несостоявшимся комсомольством…
– Нет, – сказала она, – переводчицей быть не могу – недостаточно знаю язык.
Воображаю, как ошеломила преподавателей: Анна Клушина, одна из лучших студенток курса, – недостаточно знает язык? Уговаривали её, приструнивали – ни в какую.
За это студентка-отличница Анна Клушина получила то, что заслужила – Сибирь. И распределили её не в родное Забайкалье, а – на Алтай, в город Рубцовск. Не знаю, как она там жила, знаю только, что вызвала к себе мать, и Софья Павловна с охотой примчалась: матери с дочкой завсегда сподручней жить, нежели с сыном и снохой. Знаю я также – трудовая книжка матери передо мной, – что преподавала Анна Николаевна всю войну немецкий вражеский язык в Рубцовском педучилище.
Более наглядно представляю то, как дежурила Аня в жутких госпитальных палатах военной поры. На всю жизнь осталось у неё какое-то фетишированное идолопоклонское отношение к банальной марганцовке. В доме нашем, где бы мы ни жили, стояла в укромном месте бутыль с рубиново-чёрным густым раствором марганцовокислого калия. Чуть где порез, ссадина у меня ли, у сестры Любы, у самой ли матери, – мигом откупоривалась заветная бутыль и свежая рана обильно смачивалась кусачей жидкостью. Никаких йодов, никаких зелёнок и никакого одеколона Анна Николаевна не признавала: ошпарит порез жгучей марганцовкой и – пляши, ойкай, скули от огненного зуда. Зато, глядишь, через день уже от ранки одни воспоминания на коричневом пальце. Словно живой водой зализало.
– Спирта почти не было, для операций берегли, – рассказывала, помню, муттер, – а для перевязок марганцовку вёдрами разводили. Разбинтую рану, а там черви гимизят: лето, жара. Вычищу, соскребу червей ложкой, а потом на рану марганцовку прямо из кружки. Солдатик, бедный, губу прокусит, вертится, мычит – терпи, терпи, приговариваю, зато рука целой останется. Так вот марганцовкой и спасались…
К слову упомяну, что такая же крепкая вера в чудодейственную целительную силу имелась у матери и по отношению к дегтярному мылу. Кому, может, и не весьма приятен тяжеловатый, смолисто-терпкий запах этого дешёвого мыла, а я так сызмальства привык к нему, притерпелся. И – совпадение ли, просто ли случайность – за полгода до смерти Анны Николаевны запасы лечебного дегтярного мыла у неё иссякли. Она просто-напросто умоляла меня в письмах найти, купить и выслать ей волшебного мыла, полагая, что-де в наших-то европах подобная мелочь должна продаваться на каждом шагу. Увы, тщетно я бил ноги в поисках дегтярного чуда – дефицит.
И надо же случиться такой подлости: возвращаясь с похорон матери через Москву, я зашёл в первую попавшую аптеку, на Бутырской, и пожалуйста – проклятое дегтярное мыло стоимостью 14 копеек валяется на витрине. А вдруг оно чем-нибудь и помогло бы матери, отодвинуло от неё хворь?
Мы ж ничегошеньки не знаем – почему живём, от чего и как умираем…
4
В Анне Николаевне, где-то в душе её или в сердце, угнездилась с юных лет и принялась командовать её судьбой охота к перемене мест.
Как уехала она из дому шестнадцатилетней в Иркутск, так и потянулась её бесконечная одиссея. Да благо бы путешествовала из Иркутска в Москву, из Москвы в Ленинград, а там бы и в Париж, к примеру, или хотя бы в Киев. Куда там! Начав с городов, Анна Николаевна принялась потом обживать один за другим самые глухие сибирские райцентры и сёла – Карымское, опять Дарасун, Александровский Завод, Калангуй, Черемхово, Заиграево… Лишь в Новом Селе, под Абаканом, мать моя наконец осела, попривыкла, протянула последние тридцать лет своей жизни и упокоилась на вольном ветреном новосельском кладбище.
Попробуйте, поищите на карте страны все эти Калангуи да Черемховы – и в самую сильную лупу не отыщете. Дыра географическая, она и есть дыра. В этих Богом забытых местах, поди, до приезда Анны Николаевны и о немецком чудном языке толком не слыхивали. Зачем, почему она меняла Карымское на Александровский Завод, мыло на шило?..
А пока, после войны, она поднялась с места, сагитировала свою родительницу, Софью Павловну, и махнули они в Бийск. Момент был, как любят сейчас политики выражаться, судьбоносный: Анна Николаевна вознамерилась было повысить свой жизненный и гражданский статус – из задрипанного Рубцовска перебраться в настоящий и вполне приличный город. Кто знает, сложись обстоятельства удачнее, она из Бийска перевелась бы потом в Барнаул, а там и на Москву бы замахнулась. Но человек предполагает, а Бог, как известно, не дремлет. Он подбросил Анне Николаевне испытание, которое выдержать она не смогла.
В Бийск они приехали ближе к вечеру. Аня, оставив Софью Павловну с вещами на вокзале, заспешила в город разыскивать гороно. Был август. Сумерки набухали лениво, но с каждой минутой на плохо офонаренных улицах чужого города становилось всё неуютнее. Скорей, скорей найти гороно, там сторож поможет дозвониться до заведующего – в гостиницу на ночь устроят или хоть бы в школу какую пустили переночевать.
Прохожие попадались всё путаники: один туда указывает, другой совсем в обратной стороне горотдел народного образования – ну прямо-таки анамеднись – видал. Совсем свечерело. Аня, голодная, измотанная, злая и обиженная на весь белый свет, повернула к вокзалу. Вдруг к ней приблизился мужчина: высокий, худой, в форменной фуражке, в сапогах и плаще.
– Девушка, вы что-то ищете? – голос доброжелательный, приятный.
Аня качнулась навстречу нежданному доброхоту.
– Да, да, вы знаете, уже с ног сбилась. Мне отдел народного образования нужен, гороно.
– Нет проблем, девушка. Идёмте – покажу.
Незнакомец чуть не схватил Аню за руку, нетерпеливо повторил:
– Ну, идёмте же!
Аню насторожил натиск, нотки странного нетерпения в голосе. Она невольно спрятала руку за спину, отступила на шаг. Мужчина хохотнул, наклонился к Ане, показывая ближе фуражку.
– Вы что, боитесь меня? Я же милиционер. Видите?
И точно, Аня только теперь разглядела, фуражка на мужчине милицейская, с красным околышем. Аня обрадовалась, отмякла, расслабилась.
– Вот хорошо-то! Проводите меня, пожалуйста, до гороно, помогите. Я только что приехала в ваш город, ничего ещё не знаю. Я – учительница. Буду здесь работать. Я иностранный язык преподаю…
Аня тараторила, а они уже шли улицами, куда-то сворачивали. Провожатый начал вопросы задавать, расспрашивать: одна ли она приехала, где вещи, много ли, документы с собой ли?.. Вопросы были странноваты.
И вдруг Аню как обухом по голове: фуражка-то милицейская, да и сапоги, может, тоже, но вот плащ-то явно не милицейский, плащ-то замызганный – в таком на рыбалку ходят или по грибы. И вопросы эти, вопросы-расспросы… Сердечко у Ани ухнуло вниз, скукожилось. Она вцепилась в ридикюль, где покоились документы и деньги, замедлила ход. «Милиционер», что-то бурча, вышагивал чуть впереди – увлёкся. Они шли по совершенно глухой улице, уже окраинной, впереди угадывался зловещий пустырь.
Аня развернулась тихонько и рванула сломя голову обратно – аж ветер в ушах запищал. Благо, что уже тогда, в юности, она терпеть не могла высоких каблуков. Как же она летела! Но лететь-то летела, а мысль в голове билась-пульсировала: от долговязого так просто не убежать. Что делать? Аня по наитию перескочила на другую сторону тёмной улицы и нырнула в ближайшую подворотню. Забрехал сурово пёс. И в ту же секунду она увидела «милиционера» – он быстрым шагом спешил по той стороне, рыскал, всматривался по углам. Сейчас, вот-вот и – узрит.
Аня нащупала рукой, поняла – доски под воротами нет. Она втиснулась через щель во двор и чуть вконец не обмерла от ужаса: прямо над ней нависла псина с разверстой кровавой пастью – зверь хрипел, клокотал, полузадушенный ошейником, бешено грёб воздух когтями. Ещё бы цепи чуток, и злобная тварь разорвёт Аню в клочки. Но тут хлопнула дверь, мужской голос рыкнул, кто-то оттащил клыкастую зверюгу, запер в будке. Аня сидела, вытянув ноги, привалившись к воротам спиной и плакала, выла, размазывая слёзы грязными руками.
Хозяева дома, в отличие от своей собаченции, характеры имели гостеприимные – настоящие сибиряки. Муж и жена – дети у них разъехались или на войне погибли – обитали в хате вдвоём. Даже жуткий вид ночной неожиданной гостьи их не испугал и не смутил. А уж вид у Ани был действительно о-го-го! Мало того что в грязи и пыли, но, оказывается, мальчишки подворотню незадолго перед этим, назло цепному псу, видно, приспособили под нужник – светло-серый новёхонький костюм Ани (специально для Бийска сшила, первый раз надела) смотрелся весьма пятнисто и терпко благоухал. Хозяйка подхватилась его почистить или простирнуть, но Аня воспротивилась. Она накинула пока чужое платье, а костюм свой, королевский и единственный, скомкала и, оплакав, сунула на огороде в дыру уборной.
Хозяин сходил с Аней к вокзалу, забрали они истомившуюся Софью Павловну с чемоданом и узлом. Хозяева настоятельно советовали остаться в Бийске, пожить у них на квартире первое время, но Аня решила твёрдо: прочь из этого Бийска-убийска, прочь и подальше от бийских «милиционеров», прочь от этого ужасного вечера. Первое впечатление от нового места уже не переборешь – известно давно. Прочь!
Путь манил в родное Забайкалье.
5
Мрак, мрак и мрак неизвестности.
Не знаю, не ведаю, почему всего лишь через год после обоснования в Дарасуне мать моя была переведена из одной школы в другую. Почему? В трудовой книжке Анны Николаевны запись оставлена странная: «1 сентября 1947 г . Освободить от должности преподавателя в Дарасунской средней школе… Назначена преподавателем немецкого языка в Ульзутуевскую среднюю школу» (это здесь же, на окраине Дарасуна). Может быть, её насильно, против её воли перевели? Тогда ведь порядочки практиковались строгие, винтики выкручивались из старых мест и вкручивались в новые не по своей, как правило, воле…
Одним словом, Анна Николаевна принялась обживать новое для себя место. Софья Павловна дочь свою разъединственную не покинула. И вот тут коснусь весьма деликатной материи. Да, история – в том числе и история жизни отдельно взятого человека – не терпит сослагательного наклонения. И всё же: если бы… Если бы моя бабушка, Софья Павловна, нарожавшая и выкормившая целую кучу сыновей, прижилась под старость у какого-либо из них – судьба моей матери сложилась бы совершенно иначе. Я и посейчас, уже будучи взрослым, наблюдая, как вековуют бобыльный век свой ещё молодые женщины, обитающие в тесных хибарках со своими родительницами – а таких тьма кругом! – невольно вспоминаю судьбину Анны Николаевны.
Уж какой дворец предоставило преподавательнице немецкого языка Клушиной А. Н. Карымское роно – представить мне не трудно, сам потом, народившись, живал в подобных до самых взрослых лет. Вот и существовали в однокомнатной конурке ещё стареющая Софья Павловна и уже стареющая Анна Николаевна: матери моей исполнилось в то время тридцать – роковой, бальзаковский, рубеж. Личная жизнь не удавалась во многом по причине, если можно так едко выразиться, советских социалистических условий быта, бытования и жизни.
А ведь стоит вспомнить, – до революции те же учителя, как правило, жили в очень даже приличных условиях. Взять хотя бы «педагога-демократа» И. Н. Ульянова, который имел удовольствие проживать в двухэтажном не тесном особняке и содержать на свою скромную педагогическую зарплату довольно многочисленное семейство, имел в доме прислугу. Ну да ладно, папаша будущего вождя мирового пролетариата по крайней мере инспектором и директором народных училищ был. А возьмём простого учителя греческого языка Беликова: ведь и у того квартирка-«футляр» не особо угнетала убожеством – имелась у холостяка отдельная спальня и кровать была с пологом. Этот мелкий учителишко женской прислуги не держал, но отнюдь не по бедности, а лишь из страха, чтобы о нём не подумали дурно. Зато держал повара Афанасия. Надо полагать, питался учитель гимназии Беликов не особо худо.
Подлые же были времена!..
В самом конце 1940-х годов одно за другим происходят два, опять же судьбоносных, события в биографии Анны Николаевны Клушиной. Скончалась Софья Павловна. Она перед смертью мучительно болела, мать моя измаялась, ухаживая за ней, облегчая хоть мало-мальски муки самого близкого человека. В наипоследний свой жизненный миг хотела Софья Павловна что-то архиважное сказать Анне, силилась, открывала изболевший рот, но силы кончились – лишь последнее дыхание излетело из обезображенного раком горла. Анну Николаевну очень мучило и через годы, что не дай она тогда Софье Павловне за минуту до этого успокоительного лекарства, то хватило бы у неё сил выдавить предсмертные свои слова. Что хотела напоследок сказать мать дочери? Теперь, встретившись на том свете, общаются ли их души? Нужны ли там те невысказанные значимые земные слова?..
А вскоре после похорон Анну Николаевну резко повышают по службе: её берут в областной отдел народного образования инспектором-методистом. Вот он – этот последний в её судьбе лакомый шанс обустроить свою дальнейшую жизнь, прожить её опять же так, чтобы не было мучительно больно и т. д., и т. п., и пр.
И мать моя – о, чудо! – я смотрю из своих 1990-х в тот 1950-й и не верю своим глазам и ушам – мать моя согласилась…
Впрочем, я опять литературствую, подпускаю беллетристических красот, опять беру дурной пример с наших маститых романистов. Верю я, верю и глазам своим, и ушам верю, ибо знаю: в стольном забайкальском городе Чите на высокой чиновничьей должности удержалась Анна Николаевна всего ничего – с 5 мая 1950-го по 9 сентября того же самого года, ровнёхонько четыре месяца и четыре дня.
От этого времени тоже сохранился фотодокумент: группа школьников на фоне классной доски. Во втором ряду, в центре – Анна Николаевна. Одесную и ошуюю от неё, рядышком, – мальчишки с довольными ухмылками на мордахах. Над доской – плакат: «До экзаменов и испытаний осталось 3 дн.» Белая вязь по чёрному полю доски, сделанная фотографом, поясняет: «Дарасунская средняя школа. 7-ой кл. Б. Май 1950 г.» Таким образом, объектив запечатлел инспектора Читинского облоно Клушину А. Н. во время её, видимо, первой командировки и в ту самую школу, где училась когда-то, а потом и работала она сама.
В глазах матери явно виднеется какая-то тревога, какая-то напряжённость, неуверенность, и я смутно понимаю, почему такой взгляд у неё. Вид её особенно контрастен на фоне дарасунских семиклассников – они все бодры, все улыбаются, смотрят прямо, спокойно, уверенно. А ведь эти мальчишки и девчонки перетерпели войну, голодали, ещё жив диктатор и по стране продолжает стрекотать кровавая косилка репрессий. Странно, очень странно… Почему у ребят такие открытые взгляды, такие беззаботные улыбки? Может, всё же преувеличивают нынешние бойкие историки про жуть тех времён?..
Ну ладно, загадок на свете немало. А взгляд Анны Николаевны тревожен не зря: она в первые же дни читинской облоновской жизни поняла – так просто, за красивые глаза в советско-дворянское педагогическое общество не принимают. Не стоит вдаваться в подробности, намекну лишь: от одного из облоновских князьков поступали гнусные предложения 31-летней одинокой провинциальной учителке, вытащенной им из карымской глухомани. Сальные поползновения облоновского донжуана встретили непонятный для него отпор. Во-о-он ты какая! И вскоре строптивая «немка» ссылается в Александровский Завод. На сей серебряный рудник ссылали во времена оны особо опасных государственных преступников. Там, к примеру, отбывал каторгу Буташевич-Петрашевский со товарищи. В виде утончённой насмешки ущемлённый царёк из облоно велел начертать в приказе: «А. Н. Клушину освободить от занимаемой должности по состоянию здоровья и назначить преподавателем немецкого языка в Алек-Заводскую ср. школу.» Да-а-а, даже при деспотах царях в каторжные места по состоянию здоровья не отправляли…
В Алек-Заводе муттер прожила-проработала ровно пятилетку. Пятилетие это стало краеугольным в её личной, скудной на события, жизни. В этих каторжных местах Анна Николаевна испытала короткое счастье и долгие тяготы неудачного замужества, родила двух детей и развелась-рассталась с первым и последним в своей судьбе суженым.
О проекте
О подписке
Другие проекты
