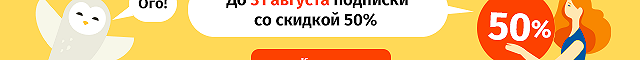
2. КЕМ БЫТЬ?
Летом и осенью 1927 года все свободные от работы часы я просиживал за учебниками. Даже в выходные дни. Так я подготовился за курс школы второй ступени. По приглашению старшей сестры Ангелины (Люси) приехал к ней на Северный Кавказ. Село Дмитриевское поразило величиной: территория 6x3, население – свыше 10 тысяч. Мне казалось, что больших размеров село и представить невозможно. Однако вскоре убедился, что Дмитриевское – звезда далеко не первой величины, села Петровское, Михайловское, Безопасное, Медвежье еще более крупные и могущественные, их население составляет 15 и более тысяч. Поля огромные, почвы плодородные, урожаи пшеницы высокие, скота много, хлеб пышный, девушки певучие.
Муж сестры, Николай Петрович Землянухин, работал заведующим начальной школой. Жили они при школе, занимая две большие комнаты и кухню. Мебель была «казенной». Школа отапливалась соломой. Материально жили хорошо. Как-то, уезжая в райцентр
за зарплатой, заведующий школой попросил:
– Николай, позанимайся с третьим классом! Пригодится.
– Ладно, попробую!
Занятия я почему-то начал с природоведения. Разыскал в шкафу цветные картинки животного мира, сделанные из плотного картона, географические карты, другие наглядные пособия и начал урок. Дети были буквально поражены богатством фауны и флоры Земли. Они дружно просили продолжить урок природоведения завтра, если Николай Петрович не вернется сегодня из поездки.
Получить зарплату в тот день Николаю Петровичу не удалось, и он остался в Медвежьем ночевать. Пришлось мне проводить уроки и на следующий день. На этот раз я начал занятия с арифметики. Начертив на классной доске железнодорожные и водные пути, учил решать задачи на движение. И на этот раз дети занимались так, что от напряжения на кончиках их покрасневших носиков повисли капельки пота, а они не замечали до тех пор, пока не был объявлен перерыв. О шалости нa уроке и речи не могло быть: не было времени.
Уроки явно удались. Знать, практика, полученная в ликпункте, не прошла бесследно.
Посидев на одном из уроков, Николай Петрович сказал:
– Все ясно: ты будешь учителем!
– Как? Ведь я приехал к вам, чтобы вы помогли мне выбрать профессию! – воскликнул я, пораженный категоричностью выводов заведующего школой.
– А чем профессия учителя хуже других?
– Но ведь я не думал стать учителем! – продолжал я горячиться.
– Способности, дружок, способности для профессии нужны! И желание, конечно. А ты их обнаружил.
– И желание?
– Конечно. Как же без желания можно так блестяще выполнить работу? Посмотри-ка вот сюда!
Я посмотрел в окно. Во дворе стояла группа девочек и мальчиков, они о чем-то бурно спорили.
– Ну, что там?
– Дети что-то обсуждают.
– Помяни мое слово, тебя поджидают. Выйди к ним!
Я выбежал на порожни, нарочно громко хлопнув дверью. Гомон смолк, и от толпы детей тотчас отделились мальчик и девочка. В несколько прыжков они очутились около меня.
– Николай Иванович! Мы избрали вас вожатым!
– Благодарю за доверие! Но ведь вожатых назначает райком комсомола! – пробовал я возразить, но понимал, что состоявшиеся выборы уже никто не в состоянии отменить. Народ решет все. Придется подчиниться. – Пионер – всем ребятам пример! Чтобы завтра все были в галстуках!
– Согласился! Согласился! Ура! – неистово кричали мальчишки и девчонки, выбегая на улицу.
– Что нового? – насмешливо щуря глаза, спросил Николай Петрович.
– Пионервожатым избрали, – обреченно сказал я, подвигая стул к учителю. – Что делать?
– Работать. Только работать, и больше ничего. Немедленно свози пионеров на экскурсию, а потом приступай к подготовке сбора. Вот и вся премудрость.
– Николай Петрович, я же командиром Красной армии хочу быть! – взмолился я.
– Потом, Николай, потом. Будешь и командиром. Не торопись. Покомандуй пока детьми.
Говорил Николай Петрович так уверенно, и все у него получалось так просто, что невольно эта убежденность передавалась собеседнику.
Так я стал вожатым и, наверно, учителем.
Вскоре меня вызвали в районный отдел народного образования и назначили заведующим районной школой грамоты. Через некоторое время по рекомендации райкома комсомола перевели на должность инспектора отдела культпросветучреждений. Потом я попросился на учительскую работу, и меня послали заведующим начальной школой в совхозе «Коммунар».
Через полтора года перевели заведующим начальной школой в огромное село Ладовская Балка, где я проработал несколько лет.
Пришлось опять садиться за учебники, повышать квалификацию.
Вот и Центральный институт повышения квалификации кадров народного образования (ЦИПККНО) позади. Физику послали преподавать в районную среднюю школу. Вскоре на поверхность всплыла непреложная истина, что для средней школы нужны учителя с высшим образованием. Пришлось сделать задний ход, вначале из села Медвежьего в село Ладовская Балка, чтобы вначале перестроить огромный двухэтажный магазин бывшего купца Дёмина под школьное здание, а потом уже работать в этой школе.
В школе сельской молодежи (ШКМ) мне, наконец, выпало счастье преподавать любимый предмет – естествознание. На пришкольном участке мы закладывали различные опыты, испытывали наши культуры, выращивали коноплю, клещевину, применяли минеральные удобрения.
И удивительное дело: как в это время, так и позже, когда я научился выращивать роскошные плодовые деревья и закладывать сады, я встречал полное равнодушие руководителей школ к зеленому богатству. Стоило мне уйти из этой школы, как посаженные детьми под моим руководством сады забрасывались, вырубались, а на образовавшемся пустыре появлялись индивидуальные огороды, засеянные кукурузой или картошкой. Так было в с. Ладовская Балка, так продолжается в с. Татарка Шпаковского района Ставропольского края.
Проходит время, и опять не хватает знаний, не столько знаний, сколько диплома. Однако не одними знаниями жив человек, и 7 января 1935 года я женился на Дусе Бережной. Она сельских ребятишек грамоте обучала. Полюбил за кроткий нрав и пухлые щечки, пламеневшие, как утренняя заря. 14 ноября 1935 года родилась первая дочь. Отдавая дань времени, присвоили дочери имя Эмма. 15 февраля 1937 г. появилась на свет Вера. Это имя тоже соответствовало духу времени, возврату к чисто русскому, традиционному. Дети есть, а диплома нет. Решаю поступить на заочное отделение Ленинградского государственного университета. Почему именно в знаменитый ЛГУ, не знаю. По-видимому, из-за тщеславия и самолюбия. Прихвастнуть перед коллегами захотелось, покуражиться.
Летом 1937 г. еду на зачетную сессию. Лаборатории поражают обилием и сложностью оборудования. Отделение электрофизики, куда я поступил, буквально переливается электрическими разрядами. Лекции до предела насыщены теоретическими исследованиями, расчетами и проблемами. И все это на пять лет. А у меня больная мать. Да и младшие сестры в моей материальной помощи нуждаются. Учеба и погоня за большим заработком вошли в непримиримое противоречие. Побеждает оппортунизм, временная материальная выгода. И через год я оставляю университет, чтобы сосредоточить все силы на даче максимального количества уроков.
Ноша из двух слагаемых: университета и 12-часового рабочего дня оказалась для меня непосильной. Но это только тактический маневр, не достижение цели. Ближайшая цель впереди, возникшая проблема решена. Летом 1939 г. я еду в г. Орджоикидзе и поступаю на второй курс учительского института имени К. Л. Хетагурова.
Город Орджоникидзе такой же небольшой, тихий и зеленый, как Ставрополь. Мне он понравился. Но у него имеется большое преимущество – река Терек. О студенческом времени у меня остались приятные воспоминания. Я глубоко убежден, что студенческие годы, несмотря на сильные материальные ограничения, – это лучшая пора жизни. Жизнь в сплоченном коллективе, дружба, целенаправленная деятельность, общение с интересными и образованными людьми, свобода и независимость – где еще, кроме вуза, найдешь такое богатейшее сочетание духовных благ?
Как-то в конце лекции пятидесятилетний декан Собиев с грустью сказал:
– Я достиг всего, о чем мечтал и к чему стремился: высшего образования, ученой степени, высокого заработка, благоустроенной квартиры. Все это я без сожаления отдал бы только за то, чтобы стать молодым, как вы.
– Это вам так кажется, профессор, – горячо возражает Женя Щербакова. – У нас нет иногда денег даже на кино.
– А хлеб есть? – вдруг оживился ученый. – Кефир есть? – продолжал он наступать. – Пирожки есть? Пикули есть?
– Все это у нас есть, товарищ профессор, – не утерпел я от подачи реплики. Уж больно близко к сердцу принял пожилой человек высказанную студенткой неудовлетворенность. – Но не единым кефиром жив студент…
– Вы с юмором, молодой человек. Посещать кино и танцевать фокстрот тоже надо. На этот счет у меня есть для юношей практический совет: не ждать почтового перевода от мамы, а пойти на товарную станцию и разгрузить вагоны. Заработанных денег вам будет достаточно на кино и на мороженое для девушек. Впрочем, для девушек тоже найдется работа на предприятиях бытового обслуживания…
В июне 1940 г. я окончил учительский институт и получил, наконец, диплом с серебряным тиснением. Так окончательно был решен вопрос, кем мне быть.
Я стал учителем.
3. ПРОЩАНИЕ С ЮНОСТЬЮ
Выпускной вечер был в разгаре, цветущие, молодые и стройные, счастливые кружились в вальсе пары. Белые электрические шары весело улыбались им с высоты расписного потолка. Актовый зал бурно дышал, шумя, как море. А за окном была ночь: темная, звездная.
Я сидел у большого фикуса, стоявшего у окна. Рядом со мной пристроился ученик 10 класса Чернышев Александр. Светлые курчавые волосы едва оттеняли его женственно нежное белое лицо. За печальные стихи, которые он помещал в школьной стенной газете, одноклассницы прозвали его «лириком». Теперь лирик время от времени бросал на меня вопросительные взгляды, желая заговорить, но не решаясь начать разговор первым: он видел, что учитель занят своими мыслями.
А мысли мои были следующие: «Милые дети, как им весело сейчас. Впрочем, они уже не совсем дети. 18 лет… Какой это хороший возраст! Сколько ярких переживаний связано у человека с этим временем!..»
Заметив одиночество Чернышева, я прервал свои размышления.
– Почему не танцуете, молодой человек? – спросил я ученика.
– Не хочется, Николай Иванович. Я лучше посижу с вами.
«Поговорить хочется, – догадался я. – Ну что ж, пусть выскажется. Вполне естественное желание».
– Скажи, Чернышев, тебе не жалко покидать школу?
– Очень. Но и радостно.
– Как же так?
– Радостно потому, что мне только 18 лег, а я уже имею аттестат о среднем образовании. Я молод и полон сил. Впереди много неизвестного. Может быть, даже очень трудного, но меня это не страшит.
– Почему же жалко?
– Грустно как-то расставаться с друзьями и товарищами. Может быть, вам, Николай Иванович, покажется странным, но мне очень жалко оставлять учителей, хотя они и такие строгие. Какие они хлопотливые! Все беспокоятся и страдают за своих учеников!
– Это нисколько не странно. Чувство благодарности к воспитателю – благородное чувство.
– А вы, Николай Иванович, помните свою учебу в школе?
– Еще бы!
– Мне кажется, что жизнь во время учебы – самая интерес- ная жизнь. Получил пятерку – радуешься, смеешься. Двойку получил – грустный целый день, даже в кино не хочется.
– Вот как! А мне казалось, что оценки почти не действуют на тебя и некоторых твоих товарищей.
– Еще как действуют! Солдатенко вон какой дядя, а и то чуть не заплакал, когда получил двойку за контрольную по химии.
– Ты так и не сказал в прошлый раз, какой предмет больше других нравился тебе. Учился ты хорошо по всем предметам.
– Тогда я этого сам не знал. Уроки литературы – Пушкин, Тургенев, Толстой, Горький, Маяковский… Уроки физики – электричество, звук, свет… Уроки химии – молекулы, атомы, раскрытие тайны вещества… Уроки астрономии – Солнце, Земля, Луна, звезды, раскрытие тайн мироздания… Сколько неизвестного! Сколько интересного можно узнать в школе! – мечтательно посмотрел вдаль Чернышев.
– Тебе не надоело учить уроки?
– Нет! Учился бы еще и еще! Но десять лет учебы позади. Сдан последний экзамен. Вот мама держит мой хрустящий аттестат. Видите? Как хороша жизнь!
– Ты не ответил на мой вопрос.
– Больше всего я люблю литературу. Я стану литератором.
– Преподавателем литературы или писателем?
– Буду учиться на журналиста.
– Выбор хороший. У тебя есть способности. Но чтобы стать журналистом, необходимо много учиться и много читать.
– Я не буду лениться. Вы это знаете, Николай Иванович.
– Да, с твоим трудолюбием ты достигнешь поставленной цели.
– Вы слишком хорошего мнения обо мне.
– Почему же? Если ты не зазнаешься и будешь настойчиво трудиться, ты многого можешь достигнуть. Будет желание – пиши. Я буду рад услышать о твоих успехах. О трудностях также пиши. Я охотно помогу тебе, в чём смогу. Советами старших не пренебрегай. Не забывай школу и товарищей.
– Все же мне удалось услышать ваше мнение обо мне. Я буду долго помнить эту беседу.
– Разве тебе хотелось услышать мое мнение об избранном тобою пути?
– Да. Мне очень нужно было знать это. Теперь же можно потанцевать.
– Иди. Надя Батагова давно с нетерпением посматривает в нашу сторону.
– Что вы! Это вам так показалось.
– По-видимому, показалось. Она уже не смотрит сюда. Так и есть. Её пригласил Рязанцев, и она ушла с ним.
– Я пойду. Спасибо за беседу, Николай Иванович, – заспешил Чернышев. – До свидания! – дрогнувшим голосом сказал он, кланяясь учителю.
– В добрый час!
Чернышев поправил галстук и торопливо зашагал к рядам стульев, на которых разместились девушки, отдыхающие после танцев.
Оставшись один, я вновь погрузился в размышления, наблюдая за происходящим в зале. Перед моим взором поплыли знакомые лица юношей а девушек, выросших на моих глазах. Вот Батагова Надя. Небольшая, голубоглазая, опрятная. Белый воротничок на темном платье мягко оттеняет её розовое миловидное личико. Даже на танцах она спокойна и сдержанна. Филатова Феня… В пятом класса она была совсем не такой: худенькой, робкой. А теперь? Высохшая, стройная, налитая здоровьем – она бурно переживает свою радость. Смуглое полнощекое лицо, освещенное черными, мерцающими, как звезды, большими глазами и обрамленное венцом тугих черных кос, искрится полным счастьем. Она не пропускает ни одного танца: вихрем кружится в вальсе, мотыльком порхает в польке. Как будто задалась она целью перетанцевать на прощанье со всеми своими одноклассницами и одноклассниками. Высокая грудь её дышит сильно, глубоко. Ей жарко, и она уже устала, но об отдыхе она не думает. Разве можно упустить хоть одну минуту этого неповторяющегося счастья? Странно… Неужели она уже понимает, что такие минуты не повторятся больше?
А мамы-то, мамы! Они не сводят восхищенных глаз со своих милых детей, со своих дочек-красавиц, с дорогих сынов. Они то смеются, то плачут. Рады они, что у них такие большие, красивые и умные дети, жалко, что придется скоро расстаться с ними: многие сыны пойдут в Красную армию, дочери – в дальние города учиться дальше, чтобы вернуться в родное село знатоками любимого дела.
Жизнь советского народа подобна великой реке Волге-матушке: как тысячи ручьев со всех сторон необъятной Русской равнины и Урала стремятся к общему потоку, делая его широким и многоводным, так миллионы советских людей, овладев многочисленными профессиями, включаются в общий строй по завоеванию природы и подчинения её великой цели человечества – построению коммунизма. Это объясняется тем, что в нашей стране имеется полная возможность выбора профессии любым гражданином СССР.
Выбор профессий у нас не имеет предела. Ты хочешь строить заводы, в горах и пустынях прокладывать дороги, строить большие светлые дома? Будь инженером. Учись!
Ты хочешь выращивать высокие урожаи золотистой пшеницы и белоснежного хлопка, возделывать янтарные гроздья винограда и душистые дыни? Будь агрономом. Учись!
Ты полюбила детей и хочешь воспитать из них новое поколение людей, здоровых, жизнерадостных, трудолюбивых, способных довести до конца великое дело Ленина по построению коммунистического общества? Будь учителем. Учись!
Если хочешь стать пилотом, машинистом, офицером, врачом или ученым – учись. Твоя судьба в твоих руках.
Щербинина Мария, Нефёдова Анна, Кравченко Татьяна, Малявин Иван, Солдатенко Василий, Сидоренко Михаил, Мальцев Петр, Горобцов Сергей избрали себе будущие профессии еще в 8 классе и в течение трех лет с особым усердием изучали основы тех наук, которые избрали себе в качестве будущих профессий. Уж они-то определенно скоро покинут своих родителей. И потянется длинная вереница дней разлуки, изредка разрываемая лучами коротких свиданий. Так уж устроена жизнь, пока дети малы, мать видит их каждый день, кормит, поит, одевает и обувает, обстирывает, купает и холит, ночей недосыпает, а как подросли – и мать не нужна. Нужна-то она нужна, да только дети становятся что отрезанный ломоть: отделяются и удаляются.
Отцы смотрят на своих детей так, как будто первый раз видят их такими. Вспоминают о своем детстве, которое протекало в других условиях, 23 года тому назад, сражаясь с белогвардейцами, они мечтали о счастливом будущем. И это будущее стало настоящим!
Я так был поглощен своими мыслями, что вздрогнул от неожиданности, когда передо мной предстали две ученицы.
– Что же вы прячетесь от нас, Николай Иванович?
– Нет, Феня, я не прячусь от вас. Я просто любуюсь вами.
– Тогда потанцуйте с нами.
– С удовольствием. Прошу вас.
Я подал ученице руку, и мы вошли в круг танцующих. Несколько пар, делая вид, что устали, вышли из круга, чтобы дать больше простора новой паре.
Стройный, сильный мужчина и красивая молоденькая девушка, одухотворенная счастьем, представляли живописную картину. Оба они были прекрасными танцорами. В то время как учитель отделывал каждое свое движение, как бы вырезая его резцом по слоновой кости, ученица то плавно, то вихрем носилась вокруг него, порывистая и юная, грациозная и вольная, как птица. Зрелость и юность, сдержанность и порыв, совершеннейшая техника вступили в страстное соревнование между собой.
Милая девушка! Она, оказывается, не без хитрости выбрала себе самого сильного партнера. Пусть, мол, убедятся, кто из них первый: он или она?
О проекте
О подписке