Я тщательно скрывал свою внутреннюю, mirabile dictu, поверхностность, но она меня очень мучила. Лишь три года спустя я был разрешен от этого мучения. Разрешение пришло в виде маленькой книжки в бумажной обложке, напечатанной заграничным шрифтом, хотя и по-русски. Я ночь напролет читал «Доктора Живаго» с возрастающим волнением личной благодарности автору и потом долго в разговорах пытался и не умел сказать, что книга гениальна, потому что дождь, снегопад, лицо, промелькнувшее за окном поезда, в ней равнозначны любовным свиданиям, революциям и религиозным откровениям.
Со мной не соглашались.
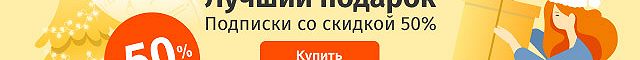
- Главная
- Биографии и мемуары
- ⭐️Лев Лосев
- 📚Меандр
- Цитаты из книги
Цитаты из книги «Меандр»
74
Засыпание и невозможность заснуть под стук колес. Разрастающиеся темы и вариации. Кажется, что уже совсем не отделаться от этой музыки и никогда не заснешь. Вот так же много лет спустя начал в голове по ночам неотвязно звучать и разрастаться рассказ самому себе о своей жизни.
Много лет спустя я прочел у Сэлинджера:
«Я параноик наоборот, мне кажется, что все в заговоре с целью сделать меня счастливым».
1999 году, катая маму в кресле вокруг старческого дома, я к чему-то упомянул Каверина, и она вдруг поделилась сплетнями полувековой – да более того! – давности. «У Каверина была очень некрасивая жена, сестра Тынянова. До войны, как, бывало, жена уедет на дачу, он уж идет через двор с букетом, поднимается к Елене Матвеевне. Он ей потом стал противен. Она мне сказала, что после каждого свидания он по два часа проводил у нее в ванной, отмывался».
Не менее ясно вижу я его маленьким мальчиком: он открывает дверь лавочки на Серпуховской улице, звякает колокольчик, из задней комнаты выходит усатый хозяин в розовой рубашке и черном жилете. «Что угодно, молодой человек?» – «На десять копеек драгун и на двадцать гусар». И мальчик получает прелестных оловянных солдатиков. Я вижу эти чужие воспоминания так ясно, потому что услышанное от близких людей в раннем детстве становится частью твоей собственной памяти. Так же ясно я вижу темноватую столовую приюта для девочек при Технологическом институте, где воспитывалась Борина мать, моя Оля-Баба. Строгая начальница в темно-синем платье ходит между столами и следит, чтобы в тарелках ничего не оставалось: «Кушайте, девушки, это все вкусное, все питательное».
Когда я услышал, как сожгли и разграбили Дом писателей, я испытал то чувство, которое в плохой прозе описывается словами «что-то во мне оборвалось»: вот и все, и захотел бы вернуться, да некуда.
Кристалл, из которого начинает разрастаться человеческая личность, родной дом – с четырьмя стенами и очагом, но у меня вместо него несколько городских кварталов между Невским, Невой и Фонтанкой и первые запомнившиеся интерьеры.
Предопределенное местом рождения горожанство, петербуржство к середине жизни стало меня тяготить, но я это не сразу понял. Вторую половину жизни я прожил на свежем воздухе, в Америке. Я не скучаю по городам. Я живу в деревянном доме. Трава, цветы, можжевеловые кусты и яблони перед моим домом ничем не отгорожены от дороги, а за домом – от леса и крутого обрыва над Норковым ручьем. Из леса в наш сад приходят оленихи с оленятами, иногда небольшой черный медведь. С кладбища неподалеку прибегает лиса. А сурки, еноты, белки и, увы, скунсы живут прямо на нашем участке. Вот только что по блесткому мартовскому насту перед моим окном прошли два упитанных рябчика, они крупнее и пестрее, чем те, на которых я охотился на Сахалине. За американские годы я повидал много городов, неделями, а где и месяцами, жил в Нью-Йорке, Риме, Париже, Кёльне, Амстердаме, Венеции, Лондоне. Я полюбил эти города. Только два вызывают унылые воспоминания – Москва и Пекин.
Фотографией на стене я хочу намекнуть своим студентам на интимный характер моих отношений с преподаваемой литературой. Сравнивая исторические расстояния, я думал, как поразило бы меня, если бы мой университетский профессор показал мне свое фото с Натальей Николаевной Пушкиной.
соседями через площадку оказались Шкловские. Я не раз слушал прославленные монологи Виктора Борисовича и начисто забывал к следующему утру. Не жалел об этом ни тогда, ни теперь: большую часть услышанного можно найти в его книгах и в записях людей с памятью, устроенной по-другому (А.П. Чудакова, например). Для меня же запоминать остроты и афоризмы было бы большим трудом и убийством сиюминутного переживания. Я всегда боялся нарушить автономию живущей во мне памяти, понуждать ее, она сама знала, что для нее важно, а что нет.
О проекте
О подписке
Другие проекты