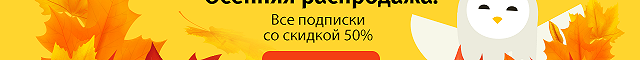
The Lady for All Seasons
Интересующее нас изображение поединка Гавриила и Сатаны находится в правом нижнем углу триптиха (художественный «перифраз» слов «кинулись в объятия друг друга»).
Как мы видим, художница, реконструируя точку зрения Марии («Мария пред собою / Архангела зрит юныя красы / И за него в безмолвии трепещет», с. 19), изобразила тела Сатаны и архангела, сплетенные чуть ли не в позе 69. Возможно, здесь сказалось влияние традиционного японского эротического искусства сюнга, частым мотивом которого является изображение сплетенных в одно целое тел230.
На иллюстрации Крафт (латентно) гомоэротическая сцена с уже открывшим рот Гавриилом фиксирует момент, непосредственно предшествующий победному акту архангела, описанному в тексте Арндта. Последний же, как мы полагаем, следовал в своей интерпретации слова «впился» за первым переводчиком «Гавриилиады» Максом Истменом231; последующие переводчики уже ориентировались на чтение Арндта:
But Gabriel has seized the moment’s chance
And swiftly, breaking free, reversed the issue
By clamping teeth upon that tender tissue
(That man should guard in any vicious fight),
The cocky member, cause of all this trouble.
The Fiend gave up – the pain had bent him double —
And back to Hell he streaked in stumbling fight232.
Публикаторам американской «Гавриилиады» в прямом смысле удается перелибертенить литературного либертена. Смысловая размытость действия в каноническом тексте поэмы – та самая динамическая «расплывчатость» словесного образа («„пятно“ загадочности»), о которой писал Ю. Н. Тынянов в статье «Иллюстрации»233, – устраняется, и читатель впивается глазами в графический (в обоих значениях слова) образ, созданный восточной по происхождению женщиной-художницей (еще раз подчеркнем, что у Пушкина эта сцена дается глазами самой еврейки-избранницы) и подхватываемый набранным курсивом литературным переводом234.
Таким образом, провокативная публикация пушкинской поэмы в Playboy, явившаяся коллективным (тройственным) по своей природе продуктом (мужчина-переводчик, женщина-иллюстратор, мужчина – художественный редактор), не «подменяет» (в значении Тынянова), не misinterprets (в значении Х. Блума) и не mutilates (в значении Набокова) оригинал, но «дорисовывает» и апроприирует ribald classic Пушкина, включая его в эстетический, визуальный и идеологический контекст стильного американского мужского журнала, достигшего в 1975 году пика популярности и, соответственно, коммерческого успеха (в среднем каждый номер расходился в количестве 5 600 000 экземпляров)235. Более того, кощунственно-скабрезный сюжет «Гавриилиады» оказывается литературным выражением гедонистической религии Playboy, сводившейся, по словам раннего критика журнала, к следующим представлениям:
The world is a collection of individual human beings each burning with sexual need. Evil exists in the form of personal philosophical motives that lead certain individuals to face away from the truth of their need. But God also exists – free copulation undertaken with Appearances and Properties, rules which <…> increase the pleasure of the act rather in the way that nets on tennis courts increase the pleasure of tennis players. <…> The Playboy fantasy <is> a societless world in which ordinary ideals and standards are <…> simply treated as nonexistent236.
Иными словами, пушкинская трактовка «непорочного зачатия» трансформируется в идеологическом пространстве журнала в проповедь счастливого утопического free copulation, символическим выражением которого служит заключительное признание протагонистки:
Soon He had flown. Then, marveling, she reasons:
«Blest if I’m not the lady for all seasons!
All in a single day, I’ve had aboard
The Devil, and Archangel, and the Lord!»237
Можно сказать, что в контексте рождественского номера Playboy Мария как the lady for all seasons (в оригинале Пушкина, конечно, подобного выражения нет) выступает как высокий образец (модель моделей) для ежемесячных playmates журнала. В том же номере девушкой месяца была названа 23-летняя модель Дженис Рэймонд (Janice Raymond), чья откровенная фотография, по традиции помещенная на тройном развороте в середине номера, не только воспроизводит конвенциональный образ обнаженной красавицы (см., например, «Венеру Урбинскую» Тициана или «Обнаженную маху» Гойи), но и удачно резонирует с чувственным описанием позы Марии в переводе Арндта:
By lively recollections still uplifted,
Our beauty in her bedroom’s snug retreat,
’Twixt afterglow and fresh desire now drifted,
Lying at ease beneath the rumpled sheet,
In fancy, saw again her Angel lover,
And, presently, with languid foot she shifted
The sheet aside the better to uncover,
Admire, adore, let hand and eye caress
The dazzling form of her own nakedness238.
Как мы видим, процесс апроприации пушкинской поэмы доводится здесь до логического завершения. Причем если наша гипотеза о придании остроумной американо-японской художницей пушкинскому Сатане портретных черт самого поэта верна, то «тайной» жертвой ее совместного с переводчиком Арндтом визуально-словесного состязания (the biting parody) с текстом «Гавриилиады» оказывается не кто иной, как автор последней, оказавшийся третьим лишним: «And back to Hell he streaked in stumbling fight».
Контур «плеймейт» рождественского номера Playboy за 1974 г.
В руках Пушкина
«Вольное» истолкование-апроприация «Гавриилиады» в рождественском номере журнала Playboy за 1974 год оказывается тем самым честертоновским невидимым крюком (invisible crook), который, как мы и обещали, возвращает нас к самому оригиналу поэмы. Как кощунственно ни звучит такое сближение, но мастерская и эффектная эротическая травестия американской художницей Крафт тем благовещения и непорочного зачатия в средневековой религиозной живописи весьма близка по духу и технике самому Пушкину. Последний, как мы полагаем, пародировал в своей шутливой поэме не столько высокие религиозные темы, сколько «небесную» романтическую поэзию, образцами которой были для поэта произведения его мечтательного «учителя» В. А. Жуковского – автора «Двенадцати спящих дев», «Светланы» и мистико-героической «Орлеанской девы», завершавшейся видением Девы Марии с младенцем:
Смотрите, радуга на небесах;
Растворены врата их золотые;
Средь Ангелов – на персях вечный Сын —
В божественных лучах стоит Она
И с милостью ко мне простерла руки…239
Романтический образ Девы как воплощения величественной чистоты и чувства, перешедшего за границу земного, кристаллизуется в творчестве Жуковского в знаменитом письме к великой княгине Александре Федоровне о «Рафаэлевой Мадонне» и «гении чистой красоты», написанном 29 июня 1821 года (опубл. 1824):
В Богоматери, идущей по небесам, не приметно никакого движения; но чем более смотришь на нее, тем более кажется, что она приближается. На лице ее ничто не выражено, то есть на нем нет выражения понятного, имеющего определенное имя; но в нем находишь в каком-то таинственном соединении, всё: спокойствие, чистоту, величие и даже чувство, но чувство, уже перешедшее за границу земного, следовательно, мирное, постоянное, не могущее уже возмутить ясности душевной. В глазах ее нет блистания (блестящий взор человека всегда есть признак чего-то необыкновенного, случайного; а для нее уже нет случая – всё совершилось!); но в них есть какая-то глубокая, чудесная темнота; в них есть какой-то взор, никуда особенно не устремленный, но как будто видящий необъятное. Она не поддерживает младенца; но руки ее смиренно и свободно служат ему престолом: и в самом деле, эта Богоматерь есть не иное что, как одушевленный престол Божий, чувствующий величие сидящего240.
Оформившийся к началу 1820‑х годов неземной, «бесстрастный» и самоповторяющийся романтизм девственного по духу и плоти Жуковского стал предметом многочисленных шуток и упреков друзей и сторонников поэта241. «Дай Бог, чтобы Жуковский впился в Байрона», – писал кн. Вяземский А. И. Тургеневу в 1819 году и тут же выражал сомнение в успехе байронизации поэзии своего друга: «Я боюсь за Жуковского: он станет девствовать, а никто не в силах, как он, выразить Байрона»242. К началу 1820‑х годов друзья Жуковского возлагали надежды уже не на «певца Светланы» (блестяще переложившего The Prisoner of Chillon на свой язык), а на его молодого и гораздо более решительного «ученика». Как афористически выразился А. И. Тургенев, обыгрывая в письме к Вяземскому мотив непорочности их друга, «Жуковского девственность в распоряжении Пушкина»243.
Неприличная «Гавриилиада», как мы полагаем, вписывается в насущное для развития русского романтизма «иконоборческое» литературное состязание Пушкина с Жуковским, начавшееся, как известно, знаменитой пародией на замок двенадцати дев, превращенный в бордель в четвертой песни «Руслана и Людмилы», иронически уличающей «поэзии чудесного гения» во «лжи прелестной»244. Приведем лишь несколько наиболее ярких примеров литературного «обнажения» и «соблазнения» очаровательной непорочной музы молодым поэтом-повесой в «Гавриилиаде».
Конец ознакомительного фрагмента.
О проекте
О подписке
Другие проекты
