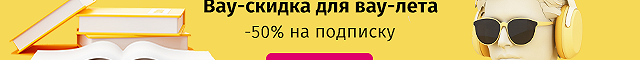
Дизайнер: Ненси Аветисян.
Фотограф: Ненси Аветисян.
Модель: Гаяне Варданян.
Глава 3
Богемные декорации
Способность видеть тайну, проступающую, подобно водяным знакам, сквозь прозрачную поверхность знакомого мира, дарована лишь тому, кто наделен воображением.
Анри Лефевр. Критика повседневности
Необходимой предпосылкой рождения богемы был рост населения городов. В огромных современных городах возросла социальная мобильность, а возникновение новых профессий и моделей образа жизни привело к появлению новых персонажей и идентичностей – менее устойчивых, более неуловимых и переменчивых. Одним из таких персонажей стал богемный художник, которому огромный город казался своего рода антиутопией. Реформаторы и моралисты XIX столетия могли порицать городские джунгли, называя их порождением дьявола и промышленным адом, но богема превратила город в свою обетованную землю, неведомый, незнакомый мир, полный меланхолии и ностальгии, опасности и азарта.
Жизнь в городе давала богеме практические преимущества. Здесь обязательства перед семьей становились менее обременительными и можно было сводить знакомства и завязывать дружеские отношения, основанные на общих интересах и совместной работе, а не на родстве. Улицы, кафе, потаенные уголки служили совершенно новым источником материала. Еще важнее были ее символические и художественные аспекты. Богема модернизировала эстетику романтизма, наложив ее на городскую жизнь. В то время как романтики наделяли очарованием и особым смыслом минувшие эпохи, дикие или далекие местности, богемные художники видели ту же дикую и экзотическую красоту в необыкновенном запустении и уродливости промышленного города (городской пейзаж становился темой произведений искусства, например картин импрессионистов, таких как Мане, Кайботт и Моне).
Вплоть до середины XIX века Париж оставался единственной столицей, способной создать условия для развития художественной контркультуры. Во Франции, в отличие от Великобритании, политическая, интеллектуальная и культурная жизнь была сосредоточена в столице, и эта особенность французской жизни, стягивавшейся к общему центру, превращала Париж в магнит, который, по словам братьев Гонкур, «поглощал все, притягивал все и был всем». Германия и Италия на тот момент еще даже не стали едиными национальными государствами.
Париж, наоборот, в дореволюционные времена благодаря близости к королевской резиденции в Версале был центром торговли предметами роскоши и художественным центром, а к 1830 году он был вне конкуренции как средоточие культурной жизни и развлечений. Здесь устраивались нескончаемые карнавалы, представления и танцы; французская столица, население которой было вдвое меньше населения Лондона, могла при этом похвастаться намного большим количеством театров. В ней также располагался старинный университет, со времен Средневековья привлекавший студентов со всей Франции и из других стран (Латинский квартал получил такое название потому, что латынь была единственным общим для средневековых студентов языком).
Для первых представителей богемы Париж был городом мечты. Альфонс Дельво, республиканец XIX столетия, утверждал, что «от Парижа умирают, как от яда, принимаемого в малых дозах». Город вызывал привыкание, подобно наркотику. В то же время он напоминал скорее природное образование, нежели создание человеческих рук. Дельво сравнивал его с океаном: за его манящей поверхностью, писал он, таились глубины, где скрывались зловещие чудовища и бурные течения, но там же обнаруживались жемчужины и кораллы. Богемный художник становился глубоководным ныряльщиком, погружавшимся в чуждую стихию и подвергавшим себя риску ради того, чтобы обрести сокровище, подлинность опыта. Он был исследователем экзотической страны, и, как полагал Дельво, если нам хочется узнать что-то о Мексике, Гватемале или Тимбукту, «разве не хотелось бы нам узнать и о том, как парижские карибы и краснокожие ‹sic› рождаются, живут, едят, любят и умирают?»[55].
Такие авторы, как Бодлер, Маркс, романист Эжен Сю и Прива д’Англемон, сравнивали Париж с дикими американскими просторами из романов Фенимора Купера. Купер, писал Прива, «показывает нам обитателей американских лесов вечно молодыми и беззаботными; они предаются забавам, на которые в цивилизованных странах и десятилетний посмотрит с презрением. То же самое можно наблюдать здесь, среди этих парижских дикарей»[56]. Для Бодлера трущобы и глухие улочки Парижа также были населены «племенами, которые мы называем дикими», но которые на самом деле представляли собой «осколки великих исчезнувших цивилизаций».
В 1840‐е годы Генри Мэйхью, исследователь урбанистической Англии и журналист, назвал лондонский Ист-Энд «неизученной страной». Перекличка, намеренная или нет, с самым известным монологом Гамлета, придавала английским трущобам зловещий облик «страны, откуда ни один не возвращался», то есть потустороннего, загробного мира. В 1880‐е и 1890‐е годы Ист-Энд стали называть «черным Лондоном» (по аналогии с «черной Африкой»). Такие сравнения с оттенком расизма казались вполне оправданными в городах, где пропасть между богатыми и бедными была огромна; но, кроме того, они позволяли изображать богемного персонажа как искателя приключений, который превращал свои странствия между двумя мирами в материал для творчества.
Ранней богеме доставляла удовольствие мрачная безликость Парижа. В 1835 году Теофиль Готье и Жерар де Нерваль снимали комнаты в тупике Дуайен неподалеку от Лувра. В то время это был унылый грязный район, избранный Бальзаком в качестве походящего места для жилища одного из самых неприятных своих персонажей – кузины Бетты: «Улица и тупик Дуайен – вот единственные пути сообщения в этом мрачном и пустынном квартале, населенном, вероятно, призраками, ибо там не увидишь ни одной живой души». Дома там «вечно погружены в тень, которую отбрасывают стены высоких луврских галерей, почерневшие от северных ветров. Мрак, тишина, леденящий холод, пещерная глубина улицы соревнуются между собою, чтобы придать этим домам сходство со склепами, с гробницами живых существ. Это место было не только пустынным – оно было еще и опасным ночью, когда эта улица превращается в воровской притон и все пороки Парижа под покровом тьмы дают себе полную волю». Дома были окружены болотом, «океаном булыжников ухабистой мостовой, чахлыми садиками и зловещими бараками… целыми залежами тесаного камня и щебня». Однако этот заброшенный район в самом сердце Парижа символизировал «сочетание великолепия и нищеты, которое отличает королеву столиц»[57].
Ведь, помимо темного лабиринта, столица была также блистательной сценой. В 1836 году Фанни Троллоп вспоминала, что в Париже люди толпятся на улицах в любое время дня и ночи, а Альфонс Дельво в конце 1850‐х годов отмечал, что его приятели-парижане «никогда не сидят дома – на улице в любую погоду можно столько всего увидеть и сделать. И вот, их жилища не убраны, зато улицы подметают каждое утро. В их квартирах за сто тысяч сыро, атмосфера там нездоровая и мрачная, а их площади, углы улиц, набережные и бульвары залиты солнечным теплом и светом. Вся роскошь – за порогом»[58].
Волшебный город как магнитом притягивал честолюбивых, и переезд из провинции в столицу, с окраины в центр был необходимой составляющей богемной авантюры. Подростком будущий представитель богемы, как правило, отчаянно стремился вырваться из тесных рамок провинциальной жизни, убежав от тоскливых блужданий по городской площади, скорбных прогулок у городской стены вместе с двумя-тремя близкими по духу школьными товарищами, от наводящих ужас семейных сборищ увядших тетушек и любящих кузенов и от обеспокоенной матери. Хуже всего было тягостное и властное присутствие отца семейства, заставлявшего юного гения изучать право или поступать на государственную службу, когда тот не хотел заниматься ничем, кроме сочинения стихов. Лишь столица предлагала сцену подходящих масштабов и достаточно яркие прожекторы для выявления его подлинного таланта. Так, Люсьену де Рюбампре из «Утраченных иллюзий» Бальзака
«показалось, что, сидя в Ангулеме, он напоминает лягушку, притаившуюся под камнем на дне болота. Париж во всем своем великолепии, Париж, который рисуется в воображении провинциала неким Эльдорадо, возник перед ним в золотом одеянии, в алмазном королевском венце, раскрывающий талантам свои объятия. Знаменитые люди братски приветствовали его. Там все улыбалось гению»[59].
Растиньяк, еще один антигерой Бальзака, увидел столицу как территорию, которую ему предстоит завоевать, когда оглядывал Париж с кладбища Пер-Лашез:
«…Растиньяк… увидел Париж, извивавшийся по обоим берегам Сены; уже зажигались огни. Он вперил взор в кварталы между Вандомской колонной и куполом Дворца инвалидов, где обитал высший свет, куда он так хотел проникнуть. Он окинул этот жужжащий улей взглядом, точно желая заранее высосать из него мед, и гордо воскликнул:
– А теперь мы с тобой поборемся!»[60]
Мечта о побеге из провинции не утратила привлекательности и в ХХ столетии. В 1930‐х годах Дилан Томас отчаянно рвался прочь из Суонси. «Невозможно, – писал он Памеле Хенсфорд Джонсон, – даже сказать, как мне хочется сбежать от всего этого… от узости и грязи, от вечной уродливости валлийцев и всего, что к ним относится, от мелочности матери, до которой мне нет дела, и от сборища хихикающей родни»[61].
Двадцатью годами позже вышел роман Колина Макиннеса «Абсолютные новички», герой которого, как сообщала аннотация, пускался завоевывать Лондон так же, как в свое время завоевывали бальзаковский Париж. Популярный богемный фотограф смотрел на город с необычного ракурса, он обозревал столицу с высоты универмага «Дерри энд Томз» на Кенсингтон-Хай-стрит, на крыше которого был разбит сад. Слушая главный хит того времени, «He’s got the whole world in his hands» («У него весь мир в руках») в исполнении четырнадцатилетнего вундеркинда Лори Лондон, он смотрел на город внизу:
«…Когда он медленно поворачивался на своем высоком стуле у стойки бара, с востока на юг, как в кинораме, перед ним открывались опрятные новые бетонные высотки, возвышающиеся… над старыми английскими площадями, затем шли пышные парки, с деревьями, похожими на французские салаты. Потом опять жизнь в портах Темзы… сделав полный круг, он вновь оказывался перед своей чашкой ледяного кофе».
В романе богемная беспечность явно ассоциировалась с достатком, появившимся у заново открытой группы – подростков: «Этот праздник подростков был действительно блистателен в те дни… когда мы обнаружили… что у нас были бабки, и мы наконец-то могли их тратить, и наш мир был нашим миром, таким, каким мы хотели…»[62]
Большой город с его непомерными и резкими контрастами не только давал материал для творчества. Он также создавал условия для появления новых типажей, и богема была среди них одним из самых противоречивых. В этом темном мире художник становился сродни фланеру, репортеру, шпиону, преступнику и революционеру. Провокаторы, заговорщики-контрреволюционеры и агенты под прикрытием, которые смешивались со сбродом, сидящим в барах на глухих окраинах, часто были еще и писателями, авторами статей для множества политических газет и журналов-однодневок. Как заметил Маркс, «жизненное положение людей этой категории уже предопределяет весь их характер. Участие в пролетарском заговорщическом обществе, разумеется, могло предоставить им крайне ограниченные и ненадежные источники существования». Они вели «беспорядочный образ жизни, при котором постоянными пристанищами являются только кабачки – место встреч заговорщиков», и в конечном счете «их неизбежные знакомства со всякого рода подозрительными людьми приводят их в тот круг, который в Париже называют la bohème»[63]
О проекте
О подписке
