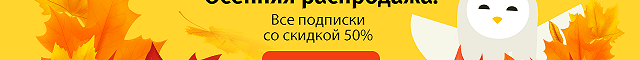
VII
1-И путает, и вьется, и ползет,
Скользит из рук, шипит, грозит и жалит.
Змея, змея-1!..
Пушкин. Борис Годунов.
– Желаете огня? – спросил Поспелова чей-то голос.
Он поднял глаза.
Граф Тхоржинский, оставшийся теперь один с ним, протягивал ему с любезною улыбкой на красивом старческом лице зажженную восковую спичку.
Молодой человек поблагодарил, наклоняясь к огню со своею папироской в губах.
– Вы очень спорите приятно, я с большим удовольствием слухал, – проговорил тот, глядя на него смеющимися глазами, – чего не могу сказать про тех, кто вам оппонировал, – прибавил он уже несколько презрительно.
– Да, – с невольным самодовольством сказал Поспелов, – этот споривший со мною… князь, что ли?.. путаный какой-то… И тот, генерал…
– А так, так!.. Баламуты московской школы.
– Вы полагаете – славянофилы?
– А так… Патриоты российски, с их слов видно – все еще в силу кнута верют.
Поспелов несколько недоумело глянул ему в лицо.
– А вы ж слухали, – объяснил веселым тоном Тхоржинский, – о власти Российского правительства, «о-пи-ра-ю-щейся», – протянул граф старательно и трудно выговаривая слоги, – на 80 и даже на 100 миллионов жителей, и что она, власть, может все затруднения, в которых теперь находится, кончать по-прежнему палкой.
Эмигрант презрительно приподнял плечи.
– Да, это старье из аристократов тешится и по сейчас еще подобными иллюзиями… Вы, впрочем, сами, – спохватился он, как бы слегка извиняясь, – сами, кажется, титулованный…
Тхоржинский уже громко засмеялся.
– Я человек Европы, европейский человек, и с той стороны, vom andern Ufer, смотрю на Россию, a чрез то ж само очень мне так понравилось слово, что вы сказали: «не-со-стоя-тельность», – отчеканил он опять, напирая с особенным тщанием на букву о и понижая голос: – Забиение генерала Мезенцова доказывает действительно большую «несостоятельность» со стороны Российского правительства, как ни объяснять его будем, – добавил он.
– A вы как его объясняете? – с любопытством спросил Поспелов.
– A я ж ниц не вем… я ничего не знаю, – поспешно поправился тот, вскидывая вверх плечами, – я только что в газетах писано, то я и знаю… Как и вы, я думаю?
И живые глаза его так и вперились в лицо молодого человека.
– Как и я, – сказал тот с небрежною улыбкой.
– Un fait bien regrettable en tout cas2! – начал опять Тхоржинский. – Вы будете так ласкавы позволить мне говорить по-французски? – как бы извинился он. – Я хотя и российский подданный есмь, – хихикнул он слегка, – але все ж на вашем языке не могу объясняться свободно.
– Сделайте милость, я говорю по-французски…
Разговор продолжался на этом языке, на котором польский граф выражался с заметною изысканностью и щеголеватостью несколько стародавнего салонного пошиба.
– Прискорбный факт во всяком случае! – повторил он, покачивая головой с озабоченным видом.
– Которому вы извинения не находите? – с прорывавшеюся в голосе раздражительностью спросил эмигрант.
Собеседник его пожал плечами:
– Я человек старых традиций и не могу допустить, чтобы дозволено было самопроизвольно убивать на улице беззащитных людей, каков бы ни был приводим к тому мотив.
Он приостановился на миг, раскурил сигару и продолжал, приискивая и отчеканивая слова, будто говорил с кафедры:
– Но я, с другой стороны, знаком с историей и знаю, что бывают эпохи… несчастные эпохи (он даже вздохнул), когда роковая сила обстоятельств выбивает, так сказать, целые поколения из колей нравственного разумения, почерпаемого нами в христианском учении. Это почти исключительно те эпохи, когда деспотизм властителей достигает точки, где народы – в лучших их представителях по крайней мере – не в состоянии более переносить его. Возмущение Спартака в Древнем Риме, гёзы при герцоге Альбе3, флибустьеры[43] в XVII веке, греческие клефты4 и множество тому подобных примеров, – все это в разные времена является все тем же живым протестом лучших людей того или другого народа против тирании…
– Ну конечно, само собою! – закивал утвердительно Поспелов, очень обрадовавшись этому подбору исторических фактов, о которых никогда не приходилось ему слышать в «революционных дебатах» его партии.
– При этом, к сожалению, – тем же как бы проповедническим тоном говорил граф Тхоржинский, – развивается почти всегда не в меру фанатизм идеи, доходящий до попрания всего, что до тех пор почиталось людьми святым, и заставляющий иногда лиц самых благородных, самых великодушных по природе прибегать к средствам не только не гуманным, но и нередко совсем бесчеловечным.
– Средства эти вызываются крайнею необходимостью, – возразил молодой человек, – и винить в них следует не тех, кто принуждены ими пользоваться, a тот порядок вещей, который заставляет прибегать к ним.
Красивый старец загадочно усмехнулся на эту фантастическую аргументацию:
– Конечно, – протянул он, – но для меня остается еще весьма сомнительным… Не знаю, как для вас, – и он пытливо вскинул глаза на Поспелова, – назрел ли протест против существующего в России порядка настолько, чтобы в этом факте, с которого начали мы наш разговор (он кивнул подбородком на листок газеты, оставленный Пужбольским на столе), можно было действительно видеть дело народной, или, вернее выражаясь, общественной Немезиды5…
Эмигрант не дал ему договорить:
– Оправдание Веры Засулич судом присяжных, – горячо вскликнул он, – доказало, кажется, достаточно ясно, как относится русское общество к людям, жертвующим собою для освобождения его от деспотизма автократии, a следовательно, и чего оно само желает.
Граф Тхоржинский утвердительно кивнул:
– Так было понято и в Европе – невероятное, надо сказать, по тамошним понятиям – оправдание этой русской Charlotte Corday, как назвал ее, кажется, Рошфор6; но при этом однако…
Поспелов перебил его еще раз:
– Высшие сановники правительства, публично, изо всех сил аплодировали вместе с прочими, когда присяжные вынесли свой приговор; чего вам еще больше!
– Знаю, – каким-то ехидным смехом засмеялся Тхоржинский, – царедворцы Людовика ХУ! тоже аплодировали первым революционным речам в Jeu de paume7… Вы знаете латинское изречение: Quem vult perdere dementat8, тех Бог ослепляет, кого хочет погубить; в истории опять найдем мы немало таких примеров: правительства стремятся быть либеральнее, чем этого желают сами их народы, и этим готовят себе пропасть… Не то ли, быть может, происходит теперь и в России – я не знаю (он приподнял плечи и еще раз вопросительно взглянул на молодого человека)… В Петербурге действительно и общество, и правительственные сферы настроены, по-видимому, весьма либерально; но в Москве – она ведь до сих пор почитается сердцем России, – подчеркнул насмешливо граф, – в ее печати высказывается, кажется, против этого весьма сильная оппозиция?..
Поспелов гневным движением швырнул на площадь окурок своей папироски.
– Какой же порядочный человек обращает внимание на то, что говорит и печатает это московское мракобесие!..
Польский граф как бы недоверчиво повел плечом.
– Они однако опираются на сочувствие масс… не интеллигентых масс, конечно, – прибавил он как бы в утешение своего слушателя.
– У нас эти массы – дубье, безыдейная толпа, не знающая, чего ей нужно и куда ей переть своею тупою головой! – отозвался желчно молодой человек с каким-то, казалось, особенным, личным раздражением против этой «безыдейной толпы».
– А-а! – протянул словно удивленно тот. – Но, сколько мне известно, интеллигентная молодежь в России в своих освободительных попытках имела до сих пор в виду исключительно эти массы и их экономическое благополучие, другими словами, переворот на началах социализма. Разве это переменилось в последнее время, и движение, – протянул он, – задалось другими целями?
Этот прямой, категорически поставленный ему вопрос смутил в первую минуту нашего эмигранта. Он не желал, да и «не мог бы», в сущности, – уколола его пронесшаяся при этом у него мысль, – отвечать на него положительно.
– Я этого не знаю! – вырвалось у него досадливо.
Граф Тхоржинский прищурился, сбросил ногтем мизинца пепел своей сигары и, набравшись дыму, пустил его вверх тонкою струей…
– Вы были в Вене? – уронил он лениво с видом человека, спрашивающего о чем-то первом попавшемся, чтобы спросить что-нибудь, и нисколько не интересующегося имеющим последовать ответом.
Но эмигрант как-то мгновенно почуял, что вопрос имел значение и цель.
– Бывал, – неопределенно ответил он, зорко следя за выражением лица своего собеседника.
Но лицо это ровно ничего не говорило ему: оно куда-то глядело вверх по направлению церкви Святого Марка.
– Давно? – услышал он новый вопрос.
– Н-нет, не очень…
– Не знаете ли вы там, – спросил чрез миг все тем же ленивым тоном граф, – одного молодого человека… по фамилии (он как будто старался ее припомнить)… Зюдервейн, кажется?
– Арончик… – чуть не вырвалось у того. – Аарон Зюдервейн? – спросил он громко.
– Его зовут «Аарон»? Я не знал… Он действительно по типу еврей, но совершенно русский по языку, показалось мне… и по способности увлекаться, – добавил красивый старец с улыбкой.
– Я там тоже Квицинского знаю, – проговорил вдруг смело Поспелов, каким-то внезапным, внутренним откровением почуявший вдруг опять и готовый теперь побожиться в том, что говоривший с ним знал «всю подноготную» не только об «Арончике» и Квицинском (носившем в партии кличку «Полячка»), но и о нем самом, Поспелове, и о таких лицах, принадлежащих к партии, о которых сам Поспелов до сих пор не имел понятия.
– Квицинского, – равнодушным тоном повторял между тем граф, – нет, я не знаю такого («Ты врешь, наверное врешь!» – пронеслось тут же в голове эмигранта)… A с господином Зюдервейном имел удовольствие встретиться у одного моего венского знакомого: он показался мне очень способным… хотя и с слишком горячею головой… Это вообще недостаток, сколько я мог заметить, нынешнего молодого поколения.
– Вы находите? – пробормотал Поспелов, не отрываясь от него любопытствующим и несколько тревожным взглядом.
Граф Тхоржинский принялся смеяться каким-то тихим и чрезвычайно благодушным смехом.
– Я питаю некоторую слабость к молодежи, признаюсь вам. Человек я одинокий, старый, давно простился с волнениями света и, «забыв его, забытый и им», по выражению Горация, – oblitusque meorum, obliviscendus et illis9, – проскандировал он даже с видимым самоуслаждением, – живу себе в стороне, ни во что не вмешиваясь и следя издали за тем, что происходит в мире, вроде старого моряка, знаете, давно отказавшегося от плаваний, но которого все тянет на берег глядеть на эволюции проходящих мимо кораблей. Из любопытства живу, можно сказать, – время теперь такое интересное… 10-Das Alte stürzt, – как сказал Шиллер,
и вот эта именно молодая жизнь, победно прорастающая сквозь разваливающееся старое, имеет для меня, старика, неотразимую притягательность. Я предпочитаю общество молодежи всякому другому… и даже, скажу с гордостью, имел случай заметить, что не всегда наскучаю ей моим… И знаете, что я вам скажу, – примолвил он полушепотом, словно собираясь сообщить какую-то тайну, – более всех нравится мне нынешняя русская молодежь…
Он поглядел на своего собеседника, словно ожидая от него выражения благодарности за проговоренное им, но тот не нашел ничего сказать на это, и граф Тхоржинский начал опять:
– Ее окрестили, да и сама она, кажется, гордится этим прозвищем, «нигилисткою», a между тем я не знаю натур, более бескорыстно, более самоотвержено идеальных в своих стремлениях, чем эти русские нигилисты11… Оттого мне их так и жаль! – совершенно нежданно для Поспелова заключил он.
– Чем же заслужили они это ваше сожаление? – несколько обиженно спросил тот.
Граф Тхоржинский вздохнул опять:
– Потому что знамя, под которым шли они до сих пор, должно привести лишь к полному краху надежд их вообще и к гибели каждого из них в отдельности.
– «Знамя», то есть что вы под этим понимаете?
– Социальный переворот а tout prix12 и немедленно.
– Наша молодежь не может отказаться от принципов, которые восприняла она себе в плоть и кровь! – с горячим эмфазом в голосе протестовал Поспелов.
– Для чего же «отказываться»! – возразил граф медлительным тоном и снисходительно улыбаясь, – sed est modus in rebus13, вы знаете; крепости не всегда штурмом берутся, их можно и обойти и обложить: результат выходит тот же, но вы войско свое сберегли… A иллюзий мы себе делать не будем, войска-то у вас не много!..
И так веско и уверенно произнесены были эти слова, что молодой человек остался безгласен. Его даже будто и не удивило совсем, что этот совсем неведомый ему старик после нескольких минут разговора прямо уже говорил ему «вы», разумея под этим «войско нигилистов».
– Ваша деятельность, – все так же говорил граф между тем, – обречена на бесплодие, пока вы остаетесь изолированною группой мечтателей-теоретиков, сеющею какие-то умозрительные семена на пользу какого-то стада тупоголовых – вы сейчас сами, кажется, выразились так? – и не умевшею или пренебрегавшею до сих пор наметить себе ту ближайшую цель, достижение которой могло бы единственно обеспечить успех ваших же планов социального преобразования в более или менее близком будущем.
О проекте
О подписке