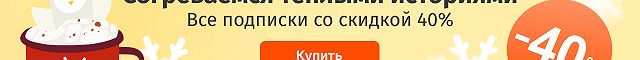
Глава 3
Проснулся я от боли.
От жуткой, выматывающей боли, сконцентрированной в правой руке. Она ползла вверх, как раскалённая нить, тянулась через запястье, сжигала плечо и проникала прямо в сердце – горячим, живым гвоздём. От неё хотелось кричать, рвать зубами воздух, биться головой о землю. Эта боль вырывала меня из забвения, заставляя стонать сквозь стиснутые зубы.
Сначала я не понял, где нахожусь. Не сразу осознал, что вокруг – темно. Глаза мои были закрыты, я весь скрючился от боли, тело дергалось в судорогах, и лежал я на чём-то мягком… и мокром. Влажность прилипала к коже, словно чьи-то грязные ладони.
Я… упал?
Почему?
Было странное, ломающее ощущение: мир шевелился, но я не мог понять – сплю ли я, умер ли, или это всё ещё продолжается. Липкая тяжесть стягивала тело, в ушах звенело.
Наконец я открыл глаза.
Сумрак. Влажный, тропический, тёплый, но зловещий. Всё вокруг дышало гнилью. Я лежал среди мокрых листьев и опавших веток, запах плесени и сырости щекотал ноздри. Где-то вдалеке что шуршало и двигалось, и в этих звуках не было ничего мирного – только тревога.
Я был в джунглях. Один. Живой – вроде бы. Но внутри всё было сломано. Как будто меня собрали неправильно и забыли что-то важное.
Наконец я открыл глаза.
Сумрак пробивался сквозь плотные заросли, но света было так мало, что казалось – ночь ещё не кончилась. Листья и ветви щекотали лицо даже в лежачем положении, их было столько, будто я провалился в самое сердце джунглей. Влажные, тяжёлые, они шептались между собой, как заговорщики.
Сеньор Алвис сдержал своё обещание – вывез меня на «покаяние». В это место. В эту дикую глушь.
Боль снова напомнила о себе. Она вспыхнула в руке, будто костёр, и я, задыхаясь, попытался повернуться на левую сторону. Когда удалось приподняться, я оглядел себя. Я был привязан. Вернее – раньше был. Не сразу до меня это дошло. Верёвка – плотная, шершавая – раньше стягивала запястья, тянулась через живот и ноги. Но теперь она просто свисала вниз, лежала на моих коленях, как обрывок тряпки. Без натяжки. Без силы. Как будто кто-то специально оставил её слабо затянутой.
Ниже, у колен, я заметил: узел соскользнул. Верёвка ослабла. Меня не привязали как следует. Или… нарочно оставили слабину?
Не похоже, чтобы старшие допустили такую ошибку. Я уже понял, как они работают – чётко, хладнокровно. Это было не похоже на случайность.
Я начал перебирать верёвку, откладываяеё в сторону. Пальцы дрожали, движения были рваными, но моток начинал разматываться. Ленты стали чуть рыхлее – кто-то и правда позаботился, чтобы я смог выбраться. Кто-то… Но кто?
Мне было всё равно. Мысли врывались в голову, как рой шершней, сбивая дыхание и забивая разум. Я не хотел думать о них. Ни о ком. Старался гнать прочь – особенно ту, одну, главную. Она была горькой, как рвота после отравы. Предательство снова всплывало, снова нависало надо мной, снова било в висок. Я мотнул головой, сжав зубы, будто мог вытряхнуть её вместе с болью.
Мне просто нужно было встать. Отвязаться.
Я потянулся к дереву, к тому самому, к которому был привязан, и, опершись на него спиной, медленно поднялся. Тело взвыло от напряжения, каждая мышца дрожала, как натянутая верёвка, готовая лопнуть. Казалось, внутри меня ничего живого не осталось – только серая пустота, тянущая вниз.
Сил почти не было. Ни в руках, ни в ногах. Я чувствовал себя выжатым, как старая тряпка. Голова кружилась, губы потрескались, и горло сжало жаждой – такой, что я готов был пить даже грязную воду из лужи. Но даже это было не самое страшное.
Страшнее всего была боль. Она пульсировала в руке – острая, хищная, цепляясь за плечо и отдаваясь ударами в грудь, точно в самое сердце. Пока она была только отрывочной, почти терпимой, но я чувствовал, что это – тишина перед бурей. Что скоро она может стать другой. Всепоглощающей. Такой, что я просто не выдержу.
И тогда уже будет неважно, помог ли мне кто-то развязаться. Неважно, кто оставил мне шанс.
Истории про «дерево покаяния» я слышал только в ночных шепотках – те самые, что парни перешёптывали друг другу под одеялами, как страшилки перед сном. Говорили вполголоса, торопливо, будто каждое слово могло кого-то разбудить. Особенно боялись, что услышит Хорхе или кто-то из старших – те не любили, когда младшие шепчутся, особенно про такие вещи.
Они рассказывали, что где-то в джунглях стоит "дерево покаяния". Старое, чёрное, мёртвое. К нему по ночам приходит Эшу – дух, злой и голодный. Он не говорит, не кричит, только смотрит и… ждёт. А потом выклёвывает тебе внутренности. Голову Эшу мальчишки описывали как у воронa, огромную, блестящую, с острым клювом, а тело – как у человека, из чёрной кожи и костей.
Раньше я не верил в это. Пугалки, сказки, чтобы заставить нас вести себя тише, слушаться. Но теперь… теперь это дерево – моё дерево – стало не вымыслом, а реальностью. Оно стояло передо мной. Сухое, кривое, с чёрной корой, которую не брала даже влага джунглей. Место покаяния.
Я вздрогнул, когда над головой раздался хриплый крик. Что-то каркнуло, срываясь на сдавленное бульканье, как будто кто-то задыхался от злобы. Я резко поднял голову, чтобы разглядеть верхушку дерева. В ветвях что-то шевельнулось. Листья колыхнулись, будто от чужого дыхания. Мне показалось – или там, среди сучьев, мелькнула тень?
Я вглядывался, моргая от пота и слёз. Полусумрак джунглей сгущался. Было почти ничего не видно. И всё же… на долю секунды я увидел это. Фигура. Нет, силуэт. Согнутая спина, длинная шея, чёрный изгиб клюва. Или мне только показалось?
Похоже, страх взял своё – и мне начало чудиться то, чего, может, и не было вовсе. Но легче от этого не стало. Ни капли.
Мне стало страшно. По-настоящему. До дрожи в коленях, до подступающей тошноты. Внутри всё закачалось, будто земля подо мной больше не держала. И от этого стало особенно мерзко… зыбко. А потом – больно. Но не из-за руки, не из-за тела. Больно внутри, где-то в самом центре, где раньше что-то ещё теплилось.
И вдруг навалилось – жалость к себе. Такая сильная, что на глаза набежали слёзы. Я их не стеснялся. Просто стоял, и они текли сами, потому что остановить их было невозможно. Я не помнил, чтобы когда-то так себя жалел. Может, только в самом детстве, когда меня все оставили, и казалось, что в этом мире больше нет никого, кто бы вообще замечал, что я есть.
Тогда только сестра Майя… Она прижимала меня к себе, отгоняла старших мальчишек, шептала что-то тихое, мягкое, как шелест простыни. Её руки были тёплые, запах – как у солнца и мыла. Тогда я верил ей. Верил, что всё будет хорошо, если она рядом.
Сестра Майя…
Но она тоже предала. Стояла на той площади, молилась, не поднимая глаз, не произнеся ни слова в мою защиту. Молчала. Как и все остальные.
Они все меня предали.
Эти мысли – про предательство, про сестру Майю, про то, как все отвернулись – вырвали жалость из сердца. Слёзы ещё не высохли, но вместе с ними ушла и слабость. Осталась только злость. Та самая, что вспыхнула тогда, на площади, когда я смотрел на лица тех, кто осудил меня без слов.
Я стоял, опершись спиной о дерево – тяжело, как раненый зверь, пытающийся удержаться на лапах. Дышал часто, рвано, сквозь сжатые зубы. Левую руку прижимал к груди, защищая правую – она всё ещё пульсировала тупой, глубокой болью, но теперь казалась онемевшей, словно закованной в ледяную броню.
Собравшись с силами, я медленно поднял голову и начал осматриваться.
Вокруг – джунгли. Тёмные, плотные, будто дышащие собственной жизнью. Влажный воздух лип к коже, пропитанный гнилью, пыльцой и чем-то ещё – тяжёлым, хищным. Деревья уходили вверх, заслоняя небо, а корни переплетались под ногами, как кости древних существ.
Я стоял в центре небольшого пятна – участок земли, утоптанный, выжженный, словно метра полтора вокруг дерева были вырваны из живого леса. Там стояло оно – дерево покаяния. Высокое, мёртвое, будто вырезанное из тьмы. Его ветви тянулись, как пальцы, а кора была покрыта зарубками, похожими на старые шрамы.
Вот моё пространство для существования. Мой кусок мира.
Вот – моя новая жизнь.
Оставаться здесь я не собирался.
Желание покинуть это проклятое «место покаяния» появилось во мне как-то сразу, само собой, будто всегда жило глубоко внутри – просто спало, дожидаясь своего часа. И вот теперь оно проснулось. Я даже не спорил с ним, не сомневался. Просто принял, как принимают удары: молча и стиснув зубы.
Будто ждал этого всю жизнь. Всю свою короткую, нищую, вытертую до дыр жизнь в этом гниющем приюте, где не было ничего настоящего. Ничего, за что стоило бы держаться. Ни одного лица, которое хотелось бы вспомнить. Ни одного уголка, куда хотелось бы вернуться.
Я не знал, куда идти. Не знал, сколько продержусь. Но одно я знал точно – я ухожу. Сюда я больше не вернусь. Пусть эти джунгли сожрут меня, пусть ночь станет моей последней. Но я выбрал путь. И никто меня больше не сломает.
Я уже сделал первый шаг в неведомую тьму зарослей, но тут же запнулся – верёвка всё ещё обвивала мои лодыжки. С тихим раздражением я опустился на одно колено, начал разматывать её, отбрасывая в сторону. Узел был тугой, но поддался. В джунглях она может пригодиться. Сейчас это было единственное, что у меня осталось из хоть сколько-нибудь полезных вещей.
Но главное – мне нужна была вода.
Горло пересохло так, будто я провёл в этих джунглях неделю, а не ночь. Я знал, где искать – мы, воспитанники приюта, не раз бывали в джунглях, пусть и под присмотром. Иногда нас водили сюда собирать лекарственные растения, якобы для общего дела. На деле – просто чтобы мы не сидели без дела.
Я вспомнил, как однажды, умирая от жажды, мы нашли зелёные стебли, внутри которых хранилась влага. Мы отрывали их у основания, слушая хруст и характерный хлопающий звук, а потом пили, наклоняя стебель к губам. Вода внутри была мутноватой, с лёгким сладковатым привкусом и терпкой горчинкой – но спасала от жажды очень хорошо.
Теперь мне предстояло найти их самому.
Пусть сейчас и темно, пусть глаза ещё толком не привыкли к сумраку – я всё равно найду воду. Я должен. От этого зависит моя жизнь, как бы пафосно это ни звучало. Это не просто страх – это инстинкт. Жажда сжигала горло, и я чувствовал, как с каждой минутой тело становится всё легче, но не в хорошем смысле – будто уходит не вес, а силы.
Я наклонился, стиснув зубы от боли, и по привычке начал собирать верёвку в руки, готовясь повесить ее себе на плечо. Автоматически протянул правую… и замер.
Мгновенно, как будто коснулся чего-то мерзкого, нечеловеческого. В тот же миг отшатнулся, ударился спиной о дерево, шершавую кору, впился в неё лопатками, будто хотел спрятаться.
Сердце застучало в ушах, я смотрел на культю – обмотанную грязной, алой тряпкой, из которой всё ещё поднимался пар в прохладном воздухе. Казалось, будто сам воздух отступает от этого места, будто оно отравлено.
Меня затошнило. От боли. От страха. От самого себя.
О проекте
О подписке
Другие проекты