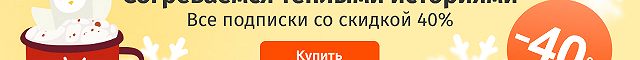
Глава 2
Сколько я просидел в карцере – не знал. Здесь время измерялось не часами, а сменой температуры: ночью пронизывающий холод, днём – удушающая, тяжёлая жара, как в парилке. Но мне было всё равно. Я сидел, съёжившись на каменном полу, обхватив руками колени, и неотрывно смотрел в одну точку – на железную дверь, которая отделяла меня от всего остального мира. Я ждал. Ждал приговора.
Он должен был прозвучать. Я знал это. Меня выведут, поставят перед всеми и скажут вслух. А потом… потом я не знал. И от этого было ещё страшнее. Это «потом» – оно давило, душило, кралось в темноте углом.
Я – серая мышь. Всю жизнь прятался, не выделялся, обходил острые углы. А теперь оказался в самом их центре. Сам влез в это. В то, чего боялся больше всего.
А хуже всего было то, что меня поймал сам сеньор Алвис. Собственной рукой. В ту самую секунду, когда я пытался вскрыть жертвенник. Хуже и придумать нельзя.
Единственная надежда, что держала меня, – Пауля не поймали. Его не было рядом. И я не выдам его. Никогда. Пусть всё посыпется на меня. Только бы он остался на свободе. Только бы он сбежал.
Неожиданно скрипнула дверь, и в карцер ворвался свет – влажный и жаркий, но всё же настоящий, живой. Он на мгновение дал искру радости, почти забытую, почти детскую. Но эта искра тут же погасла – сменилась тяжёлой тенью страха.
На пороге стоял парень, незнакомый, но явно из второго барака – старше меня, плечи пошире, взгляд равнодушный. В руках он держал верёвку и ухмылялся криво, с усталостью или с презрением, я не разобрал.
– Вставай. Да побыстрее.
Я поднялся. Ноги не слушались, словно налились свинцом. Я подошёл к нему, и он сразу же резко развернул меня, затянул верёвку и стянул запястья. Больно. Резко. Но мне было плевать. Совсем.
Я находился в полной прострации, как будто всё внутри залили бетоном. Ни мыслей, ни чувств – только каменное понимание: уже ничего не изменить. Всё случилось. Всё идёт к концу.
Выйдя на улицу и щурясь от яркого света, я медленно начал открывать глаза, осматриваясь, словно впервые видел это место. Перед храмом, на площади, собрались все – все, кто жил в приюте. Толпа стояла плотной стеной, оставив пустое пространство перед входом, где ждали сеньор Алвис и сестра Майя.
Сестра Майя стояла с опущенной головой и сложенными перед грудью руками. Казалось, она молилась. Или просто не могла смотреть.
Меня тащили рывками. Старший парень из второго барака тянул вперёд, будто я упирался, но я не сопротивлялся. Просто не мог. Мои ноги были тяжёлыми, как свинцовые, будто налились цементом. Я шёл, но не чувствовал шагов. Меня просто несло – вперёд, как по течению, без воли и без цели.
Я не мог поверить, что всё это – ради меня. Что этот стройный, напряжённый порядок, этот спектакль – из-за моего поступка. И что я – главный в этой постановке.
Я искал глазами хоть одно лицо, в котором бы прочитал сострадание, понимание. Хоть тень сочувствия. Но не находил. Те, кто слабее, смотрели себе под ноги. Словно их это не касалось. А такие, как Хорхе, ухмылялись. Кто-то показывал пальцем, кто-то даже выкрикивал что-то – неразборчивое, но я чувствовал каждый звук, как плевок в лицо.
Похоже, меня ждали для публичного наказания. И я был в нём – в главной роли.
Толпа передо мной медленно расступилась. Старший парень дёрнул меня за верёвку так резко, что я едва не рухнул лицом в пыль. Устоял только в последний момент, шатаясь, почти навалившись на него. В ответ он с отвращением оттолкнул меня, ударив кулаком в скулу.
– Отошёл, паршивец!
Боль прошла сквозь всё тело – острая, с солоноватым привкусом крови во рту. Но мне было всё равно. Страх и стыд заливали меня, как густая глина. Я всматривался в лица, выискивая только одно – Пауля. С надеждой, что он среди толпы. Что его не поймали. Что он – свободен.
И я нашёл его.
Когда люди окончательно расступились, открылся вид: сеньор Алвис, сестра Майя, старый пень, установленный перед ними как импровизированная сцена – и Пауль. Он стоял слева от пня, с опущенной головой, не глядя на меня. Его плечи вздрагивали едва заметно, как будто он сдерживал дрожь.
На его волосах засохли потёки крови, спутавшиеся с грязью. Лицо было избито – синяк под глазом, разбитая губа. Он выглядел хуже, чем я. Значительно хуже. И всё же был здесь.
Значит, его поймали.
Это было самое страшное. Не то, что меня ударили, не то, что на меня уставились десятки глаз. А то, что он – тоже в этой ловушке.
Меня снова дёрнули за верёвку и пинком поставили по правую сторону от пня. Я споткнулся, чуть не упал, но выровнялся, шатаясь, словно подстреленный зверь.
Следом парень, тот, что привёл меня, отошёл почти к самой толпе, держа верёвку в руках. Такая же верёвка была у Пауля, и его надзиратель стоял неподалёку, с таким же равнодушием сжимая её, как поводок.
Вперёд вышел сеньор Алвис. Он поднял голову – тяжёлую, как камень, поросшую двумя жирными складками на лбу. Пот блестел на лице, но он будто не замечал жары. Полуденное солнце палило нещадно, воздух дрожал, а он всё равно вышел – чтобы провести наказание. Лично. Видимо, ему это было нужно. Или приятно.
Сеньор Алвис сделал шаг вперёд, тяжело подняв подбородок и окинув собравшихся взглядом, в котором было больше показного благочестия, чем сочувствия. Он выждал, пока на площади стихнут последние шорохи и перешёптывания, и заговорил.
– Дети… – начал он с паузой, будто пробуя слово на вкус. – Младшие, старшие. Все вы – под сенью Святой Марии. Все вы – семена, которые могут дать плод. Или – сгнить в грязи.
Он остановился, шумно выдохнул, и старший парень из толпы поспешил к нему, поднёс небольшую керамическую чашку. Алвис сделал глоток, вытер вспотевший лоб платком, сложенным вчетверо, и продолжил:
– Я не раз говорил вам: всё, что вы получаете – пища, кров, одежда – даётся вам по воле Божьей. Не по вашей, не по моей. А по Его. И вы должны быть благодарны. За каждый кусок хлеба. За каждый день без кнута.
Он снова отпил, сплюнул в сторону, поджёг взгляд.
– Но вот… приходит грех. Тихий. Подлый. Он шепчет вам ночью, он делает сердце жадным, а руки – вороватыми. Он, как змей, ползёт по щелям, и вот – уже двое решили, что можно украсть из Дома Господа. Из самого сердца храма.
Он повысил голос, и толпа шевельнулась. Некоторые испуганно переглянулись. Кто-то кивнул. Сестра Майя продолжала молиться, не отрывая взгляда от стиснутых ладоней. Она не смотрела ни на меня, ни на Пауля.
Мне было очень страшно. И очень стыдно. Стыд жёг сильнее жары, сильнее боли. Я стоял с опущенной головой, чувствуя, как предательский пот стекает по спине. Всё тело словно горело.
Алвис замолчал. Сделал ещё один глоток, вытер рот платком, и вышел вперёд, в центр круга. Постоял немного, потом медленно повернулся к нам, встретившись взглядом – сначала со мной, потом с Паулем.
– Господь всегда помилует того, кто раскается, – сказал он громко, раздельно. – И я не в силах Ему перечить. Я – лишь Его слуга, верный и не скрывающий истины.
Он поднял глаза к небу, затем медленно опустил их, осенил себя крестом, и добавил:
– Кто из вас первым скажет правду… Кто затеял это – тот получит прощение. Моё. И Господне.
Я стоял с опущенной головой, глядя на сеньора Алвиса исподлобья. Его слова звучали, как яд, завернутый в мед. Он предлагал прощение. Он предлагал… выдать другого – ради спасения собственной шкуры?
Я не сразу поверил. Мысли текли вяло, ломко. Неужели всё сводится к этому? Назови имя – и будешь чист? Получишь благословение и поцелуй на лоб, как будто ничего не было?
Я переваривал это. Пытался оттолкнуть страх, сдержать вонзающееся в грудь унижение, пока не услышал голос.
Тихий. Неуверенный. Но до боли знакомый.
Он раздался из-за пня. Тонкий, дрожащий. Но с каждым словом становился громче. И одновременно – всё писклявее, отчаяннее.
– Каэл всё затеял… это он, ОН! – голос сорвался, надломился. – Я пытался отговорить его. Я тянул его назад, честно! Но он не слушал! Он сказал, что сдаст меня Хорхе, если я не пойду с ним! Это всё он! Он! ОН!
Мир вокруг затих. Я не сразу осознал, что это говорит Пауль.
Пауль, которого я считал единственным другом.
Его голос – надтреснутый, полузадушенный – всё ещё звучал, отскакивая от каменных стен храма. Он не смотрел на меня. Только кричал, словно пытаясь утопить сам страх, который разрывал его изнутри.
Толпа молчала. Только где-то с краю прошёл смешок, кто-то выдохнул с облегчением. А я стоял, глядя в землю, и внутри меня не осталось ничего. Ни боли. Ни гнева.
Только тишина.
Я стоял и смотрел на Пауля.
Он говорил. Он всё ещё говорил.
Но не смотрел на меня. Ни разу. Его взгляд блуждал где-то в стороне, как у человека, пытающегося спрятаться внутри собственной головы. Голос дрожал, срывался, но слова звучали отчётливо. Чётко. До каждого обвинительного "он".
Мои глаза были широко раскрыты, как у животного, увидевшего пламя. Сердце… казалось, перестало биться. Просто исчезло из груди, оставив внутри пустую ледяную дыру. Всё тело стало ватным, как будто я больше не существовал в этом месте – только оболочка стояла там, у пня, и смотрела, как рушится всё, что казалось хоть каплей настоящего.
За такое короткое время я пережил эмоции, которые раньше считал невозможными. Гнев, смешанный со страхом. Унижение, отравленное доверием. Боль, которую не кричат – она тише, она сворачивается внутри, как змей.
Он был моим другом. Или я думал, что он был. Пауль. Единственный, кому я доверился. Единственный, кто сказал мне: "Ты не один". И вот он – стоит перед всеми, перед сестрой Майей, перед детьми, перед солнцем, перед самым жирным и блестящим лицом сеньора Алвиса – и лжёт. Хладнокровно. Громко. Внятно.
А Алвис… тот кивал. Медленно, с ленивой благосклонностью. Будто слушал не в первый раз. Будто уже знал, что скажет Пауль. Будто сверял текст – всё ли выучено правильно, всё ли по порядку, по строкам.
На глаза навалились слёзы, и боль в груди стала почти невыносимой – такая, что будто не воздух, а осколки стекла наполняли лёгкие. Я никогда не чувствовал ничего подобного. Никогда не верил, что можно упасть в такое… не с обрыва, а внутрь самого себя. Предательство сожгло всё, даже страх. Даже стыд.
То, что меня поймали, уже перестало иметь значение. Исчезло. Стёрлось.
Я стоял, не двигаясь, глядя на Пауля, который всё говорил и говорил, будто по кругу, всё те же слова, та же ложь. Он даже не пытался притвориться. Просто повторял – обвиняя, умывая руки, стирая нашу дружбу, как мел с доски.
Я плакал. Бесшумно. Слёзы сами катились по лицу, не спрашивая разрешения. Подбородок дёргался, тело мелко дрожало, и внутри всё разваливалось. Беззвучно. Без права на восстановление.
У меня никогда никого не было. Ни матери, ни отца. Никого, кто бы держал за руку, когда было страшно. Всю мою жалкую жизнь я был один. Сам по себе. И когда наконец появилась надежда – маленькая, хрупкая, в виде дрожащего голоса, протянутой руки, – этот мир, это чёртово солнце, эта площадь решили, что я недостоин. Или, вернее, он решил.
Пауль.
Он предал нашу дружбу. Хладнокровно. Осторожно. Со спущенной головой и правильными словами.
Теперь я снова был один.
Один – в этом гниющем, лживом, пыльном мире, который не прощает и не жалеет.
Сеньор Алвис поднял руку – жестом, плавным, но железным – и Пауль наконец умолк. Его писклявый монолог затих, словно кто-то резко перекрыл вентиль, и только эхо ещё прокатывалось по внутренним стенам храма.
Наступила тяжёлая тишина.
Алвис выждал. Что-то обдумывая, склонил голову набок, насколько позволяла его массивная шея, сложенная из жира и пота. Затем, словно приняв окончательное решение, он медленно сложил ладони на своей массивной груди, нависшей над круглым, туго натянутым животом. Глухо, лениво. Его голос зазвучал снова – но теперь он обращался только ко мне.
– Сын мой… – протянул он с особым нажимом, как будто это слово было костью, которую он не хотел глотать. – Ты поступил подло и грешно. Ты захотел лишить нас… и всех этих детей – Он повернулся, окинул толпу широким жестом, раскинув руки, как пророк, собирающий паству:
– …всего. Уюта. Защиты. Мира. Храма. Святой опеки.
Он замолчал, провёл языком по треснувшим губам, облизнул их тяжело, жадно. Его маленькие глаза бегали по толпе, как будто он ждал реакции – грома, молнии, страха. Он наслаждался этим моментом. Смаковал его.
Он сделал шаг вперёд, и его сандалии захрустели по гравию.
– Есть древняя притча… – продолжил он, глядя поверх толпы. – Один человек имел две руки: одну он протягивал, чтобы делиться, другую – чтобы брать. Он кормил сирот, утешал вдов… но по ночам воровал из сундуков, обкрадывал тех, кого днём утешал.
Он остановился и поднял указательный палец.
– Тогда мудрец сказал ему: "Ты не можешь служить двум господам. У тебя не может быть руки берущего и руки дающего. Потому что та, что берёт – уже не твоя. Она принадлежит греху".
Он снова замолчал. Молча вытер лоб платком, выдохнул, медленно осенил себя крестом.
– И потому, как сказано в Писании, – его голос стал ледяным, – мы должны отсечь эту руку. Чтобы стало ясно всем – детям, свидетелям, и тебе самому, – что грех не остаётся без следа. И чтобы впредь никто не дерзнул протянуть руку туда, где живёт Господь.
Толпа замерла.
А я стоял, будто вырезанный из дерева. Тело онемело, растворилось, как и слова, льющиеся с губ сеньора Алвиса – они проходили сквозь меня, как сквозняк через щели. Я почти не слышал их. Только глядел в сторону Пауля. Он всё так же стоял с опущенной головой, будто под грузом, который сам себе накинул на шею.
– Да будет так! – раскатисто возгласил сеньор Алвис, подняв руки к небу.
Он шагнул назад, к сестре Майе. Та сжалась ещё сильнее, словно хотела исчезнуть внутри собственной рясы. Её побелевшие пальцы судорожно сжимали чётки, губы шептали слова – теперь уже слышно: в её молитве было моё имя. Я уловил его, как укол в сердце. Её голос был слаб, но отчаянно цеплялся за небо, будто мог переубедить Бога.
Мой надзиратель – тот самый, что держал мою верёвку, – выступил вперёд. Обошёл пень и встал в центр круга, под палящим солнцем, где земля растрескалась от жары. Он резко дёрнул меня, и я споткнулся, ударившись лбом о грубую, потемневшую от времени древесину.
Я попытался встать, пошатнулся… но тут же почувствовал чужие руки. Жёсткие. Холодные. Они схватили меня за запястья, разжали пальцы, развели руки – и уже ничто не принадлежало мне.
Дальше всё словно провалилось. Пыль слепила глаза, липла к лицу, смешиваясь со слезами, превращаясь в грязную, вязкую маску. Я почти не видел, что происходит, но слышал всё – громкие, раскатистые выкрики толпы, чьи-то крики, чей-то смех.
Я чувствовал, как мою левую руку грубо уложили на пень – ладонью вниз. Коленом прижали к раскалённой земле, камни впивались в колени, и дыхание стало обрывочным, рваным. Я услышал шаги – кто-то вышел из толпы, ступал медленно, размеренно.
Доносился слабый, упрямый шёпот сестры Майи. Молитва. Мой голос звучал в ней, как будто она звала меня не к прощению, а к последней исповеди. Я слышал, но не видел. Только грязный пол, пыль и над всем этим – гулкое напряжение.
А потом пришла боль.
Резкая. Чёрная. Как будто раскалённый стальной прут вогнали мне в кость. Я выгнулся от ужаса, от боли, но меня тут же вжали обратно, придавили, не давая даже вдохнуть. Кто-то держал меня за плечи, кто-то сдавливал запястья, кто-то хрипло приговаривал: не дёргайся.
Я закричал.
И толпа взревела в ответ – восторженно, жадно. Это был не гул сострадания, нет – ликование, настоящее, грязное. Я бился, как мог, рвался, но руки держали мёртвой хваткой. Я кричал, выворачивался, тело само искало путь наружу из этой боли – но не было выхода.
Потом – странный шипящий звук. Металл. Дым. И боль вдруг сменилась чем-то другим – пустотой. В глазах помутнело, но сознание не уходило. Как назло. Мой организм, будто злорадствуя, не позволял мне отключиться. Он держал меня здесь. Заставлял чувствовать. Всё. Каждую секунду.
Это была пытка. Холодная. Точная. Торжественная. Как будто сам мир хотел, чтобы я испытал всё, до последнего вздоха.
Наконец меня отпустили.
Но лишь на миг – короткий, словно пощада, которой не будет. Меня подняли, развернули, чтобы я стоял лицом к сеньору Алвису. Рядом с ним возвышался другой мужчина – старый, плотный, с телосложением мясника. Он был облачён в тёмно-красную рясу, обтянутую по швам, а в опоясанной кожаным ремнём руке держал тесак. Лезвие тупо поблёскивало, с него медленно, почти лениво, стекали багровые капли.
Он даже не смотрел на меня. Для него я был просто очередным – задачей, телом, инструментом наказания.
Я не мог стоять. Ноги подкашивались, дыхание рвалось, грудь будто была сдавлена каменной плитой. Боль поглотила всё, стала единственным, что я чувствовал. Но я всё равно поднял голову. Посмотрел на них – прямо, не отводя взгляда.
И в этот момент внутри меня что-то изменилось.
Страх ушёл. Как умирает зверь – тихо, без слов. Вместо него пришло другое: холодное, тяжёлое, выжигающее изнутри. Презрение. К ним. К нему – жирному, расплывшемуся Алвису, и ко всем, кто стоял рядом, кто молчал, кто смотрел и не отворачивался.
Я перестал бояться. Перестал стыдиться. Впервые за всё время – почувствовал, что вижу их настоящими. Не как богов в храме, а как людей. Жалких. Грязных. Гниющих под маской святости.
И в этом презрении родилась сила.
Не та, что могла спасти меня. А та, что позволяла выжить. Смотреть в глаза боли. Стискивать зубы. Не упасть. Не дать им победы.
– Так же, – продолжил Алвис, как будто ничего не произошло. Голос его был ровным, спокойным, словно всё, что случилось минуту назад, – крики, кровь, боль – не имело значения. – Ты будешь отправлен на ночь в джунгли. Там, в одиночестве, ты будешь молиться о прощении. И если Господь смилостивится над тобой, утром мы вернём тебя обратно. Тогда, и только тогда, ты сможешь начать искупление своих грехов правильными поступками.
Он на мгновение задержал на мне взгляд – тяжёлый, изучающий. Потом обвёл глазами толпу и бросил через плечо тому, кто держал меня за верёвку:
– Уведите его в место покаяния.
С этими словами он развернулся и зашагал прочь, по раскалённой пыльной земле, не торопясь. Что-то бросил мяснику в красной робе – короткую фразу, неразборчивую. Тот лишь хмыкнул, усмехнулся перекошенной улыбкой и последовал за ним следом.
Сестра Майя, всё это время стоявшая в стороне, наконец подняла голову. В её глазах блестели сдержанные слёзы. Но взгляд, который она бросила в мою сторону, был коротким, тихим, почти равнодушным. Потом она тоже развернулась и ушла, ступая, как призрак.
Меня потащили – не спеша, словно тащили не живого мальчика, а мешок с отходами. Потом с размаху бросили на скрипучую деревянную тележку. Я не успел сгруппироваться, не успел ни закричать, ни отвернуться – лоб со звоном ударился о жёсткий бортик.
Мир накренился.
И, наконец, пришло спасительное забвение – как тёмная вода, затопившая всё, что болело. Всё, что ещё жило.
О проекте
О подписке
Другие проекты