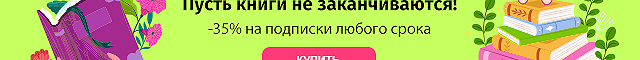
И мне вспоминалась при этом недавняя резолюция съезда пчеловодов, убежденно доказывавшая, что «правильное развитие пчеловодства невозможно без всеобщей, прямой, равной и тайной подачи голосов».
Я опять оглядывался кругом, останавливался мысленно на известных мне условиях тогдашней как городской, так и сельской жизни.
Несмотря на тягости небывалой войны, я видел, что жизнь в стране не замирала; что у нас и тогда было меньше острой нужды, чем в других странах, где единоличного правителя было.
Рабочие, купцы, фабриканты не могли жаловаться на отсутствие заработка. В деревне благодаря широкому пособию семьям запасных, скопилось порядочно денег, и жилось не хуже, а часто и сытнее, чем до войны.
Несмотря на недостаток рабочих рук, поля были все засеяны, неплохой, даже хороший урожай был вовремя собран и убран; ученым, писателям, художникам, мыслителям никто не препятствовал работать на пользу науки и человечества, а ученикам – учиться тому, к чему они чувствовали призвание. Не разрешалось только распространение – как и везде – идей и призывов, угрожавших мирному существованию государства. Бывали, правда, ошибки и недостаточная вдумчивость и мелочность правительственных цензоров. Но это были исключения, не затрагивавшие главного: человеческая, действительно благородная мысль не была загнана в подземелье, а слова величайшей христианской истины, почти единственно необходимые людям, могли свободно раздаваться с церковных амвонов и так же свободно распространяться среди всех людей.
Страна наглядно, даже при чрезвычайно тяжелых обстоятельствах военного времени, могла продолжать развиваться и не умалять уже достигнутого раньше величия.
Военное счастье, по всем данным, тоже должно было вскоре повернуться в нашу сторону. Вся необходимая подготовка к тому уже заканчивалась, а упорный враг, как чувствовалось, начинал уже изнемогать от своих внутренних затруднений. Наша армия как никогда была богата огромными техническими и материальными средствами.
Басня о намерении заключить отдельный позорный мир с германцами была к тому времени уже развенчана.
Еще звучали в ушах всех слова государя, с такой убедительной искренностью сказанные им войскам на фронте (в Замирье) при недавнем их посещении7.
Я эти слова не только читал напечатанными в газетах, но я лично их слышал, находясь в непосредственной близости от государя. Я видел взволнованное его лицо и сам был охвачен искренностью того чувства, которое заставляло государя произносить его полную убеждения речь.
Правитель страны, о достоинстве которого никто в те дни не думал, наглядно для всех оберегал нравственное величие своей Родины и сам с достоинством и с крепкой верой защищал ее имя от всех посягательств.
За что же его тогдашняя общественность так не любила? Так упорно отказывалась верить в искренность его слов, в благородство его стремлений и не шла навстречу его убедительным и бескорыстным призывам? – не переставал я задавать себе недоуменные вопросы.
Неужели только потому, что его не знают и благодаря его положению действительно не могут близко и хорошо знать?
Конечно, нет, не в этом одном кроется причина, – думал я.
Ведь 120 миллионов русских людей его лично не знают и тем не менее, несмотря на нападки интеллигенции и других 35 миллионов, не перестают окружать своего царя той наивной, любовной верой, которая невольно бросалась мне в глаза при моих частых поездках на фронт и в тылу, по разным глухим углам моей необъятной Родины.
Да и для «общественности», для «мозга страны» он не был прикрыт непреодолимой стеной. Он стоял слишком на виду у всех, со слишком многими ему приходилось соприкасаться. За его долгое правление не знать его хоть немного было нельзя, а отсутствие приемов, балов и т. д. не могло мешать этому. Его, вероятно, и знали, даже ближе и лучше, чем любого общественного деятеля или любого министра, сменявшихся тогда как в калейдоскопе?
Но если его немного действительно знали, то могли его хоть немного и понять, а поняв, если не полюбить, то оценить и в минуту нужды сплотиться вокруг него, как не раз сплачивалась Русь вокруг своих государей, обладавших, как и всякий человек, своими недостатками.
Я перебирал в мыслях бесчисленные исторические примеры этого рода, останавливался на нравственных человеческих обликах наших прежних правителей и неизменно с полным беспристрастием считал императора Александра III и моего государя Николая Александровича самыми лучшими и наиболее нравственными из всех. Вокруг нашего русского из русских царя не только было должно, было можно легко и с порывом искреннего чувства объединиться, забыть всякие раздоры и хоть на время войны не начинать новых.
Да ведь и было время, и еще так недавно, когда вокруг него действительно и объединялись. Еще два года назад, при начале войны, даже после яростных нападок 1905 года, после «жестоких разочарований в даровании свобод» его восторженно встречали, перед ним становились даже на колени, к нему неслись благословения, его призывы воспринимались с патриотическим воодушевлением.
Это было тогда. А теперь? Что изменилось?
Разве не остался он тем же прежним человеком, каким был и два года назад, с теми же качествами и теми же недостатками в глазах других, с теми же ставившимися ему в вину и тогда привходящими домашними обстоятельствами.
Тогда ничего не замечалось – теперь кто и какого вздора о нем не говорит!
Почему люди, зная давно, что и на солнце бывают пятна, только теперь вдруг вообразили, что из-за этого оно уже перестало греть и способствовать проявлению жизни.
Если он сам не изменился, то, значит, изменилась окружающая его среда. Я знал, что общественное мнение изменчиво, что истинные причины настроения толпы почти неуловимы, и все же силился найти объяснение психологии той части русских людей, которая тогда особенно негодовала.
Быть может, причиной являлось разочарование, усталость от затягивавшейся безмерно войны?
Конечно, все это было, но было лишь отчасти. Надежда на хороший конец войны не была еще потеряна, наоборот, она возрастала, да и моей Родине в течение многих веков не раз приходилось «запасаться терпением» от затяжных и неудачных войн и выходить победительницей при худших условиях, с еще большим разладом, чем теперь.
Непосредственные деятели войны, солдаты, этот сколок с нации, в общей массе еще не упали духом, и даже идущие им на поддержку запасные части, квартировавшие в волновавшемся Петрограде, относились к появлению государя восторженно и искренно отзывались на его призыв напрячь все силы до недалекого победного конца.
Прошло пять долгих лет, и до сих пор я вспоминаю с волнующим чувством этот последний высочайший смотр запасных гвардейских и армейских частей на Марсовом поле в Петрограде8.
До сих пор я слышу эти, никогда раньше с таким воодушевлением, с такою силою, с таким громом не раздававшиеся ответные клики и «ура» на приветствие государя.
Он ехал, как обыкновенно, медленно и спокойно по фронту, как всегда пытливо и с любовью всматривался в солдатские лица, ласково улыбаясь на их столь искренний порыв; императрица и наследник следовали за ним.
Я видел, что и на них устремлялись не одни только любопытные взоры, что и их провожали те же громкие, не подогретые приказом начальства клики, то же искреннее воодушевление.
Я не знаю, что я тогда записал в свой, теперь уже пропавший дневник, но я чувствую и сейчас, как отрадно было сознавать себя русским, какой надеждой были проникнуты мысли, как я верил в те часы в неизменное, не поддающееся никаким искушениям величие и благородство моей Родины.
Об этих кликах, об этом воодушевлении вспомнил я и потом, всего через несколько коротких месяцев, в тяжелом разочаровании, в несчастный, пасмурный февральский день, в Ставке, когда мне пришлось докладывать государю телеграммы о взбунтовавшихся этих же самых запасных частях.
Вспоминал о них невольно затем и в Пскове, в начале проклятого марта, когда уже все совершилось, когда не о чем было уже думать и, казалось бы, не о чем было и вспоминать.
Быть может, вспоминал о них и сам государь, когда в мучительном раздумье в купе своего кабинета в императорском поезде он принимал роковое не только для него, но и для всей России решение.
Не казались ли ему, ввиду такой изменчивости, более убедительными и доводы его главнокомандующих, что войска уже действительно настроены теперь против него, или, быть может, наоборот, мелькнула у него другая, менее безотрадная мысль, что одно его появление может заставить иначе биться солдатское сердце и что настоящий отклик страны он найдет не в телеграммах председателя «русской думы» и своих генерал-адъютантов9, а на фронте среди не лукаво-мудрствующих и им так любимых за это русских людей.
К мысли этой он, наверно, возвращался не раз – он ведь так верил в любовь простого русского народа к своему царю и столько раз чувствовал неподдельные тому доказательства.
Эта мысль могла быть верной и, пожалуй, единственно соответствовавшей тогдашней предательской обстановке; выход из той западни, куда клевета и измена завлекла вместе с ним и весь русский народ, был тогда уже не легок, конечно, но все же был.
Отчего же он не попытался смело и убежденно пойти к этому выходу?
Но об этом потом. До того времени мое сознание тяготили другие вопросы. Я не верил, как уже сказал, чтобы революция вспыхнула во время войны, необходимых обстоятельств, побуждавших к ней, по моему пониманию, явно не было, да и инстинкт самосохранения закулисных деятелей должен был подсказывать обратное даже самым горячим головам. Но я все же чувствовал, что желание «сделать переворот» может легко превратиться в действие, не теперь, а при неудачном окончании войны.
Мысль о необходимости дворцового переворота высказывалась уже тогда открыто, не стесняясь, даже в среде наименее, казалось бы, восприимчивой для подобных внушений.
Вспоминаю, с каким гадливым чувством мне пришлось выслушать в начале января 1917 года рассказ о том, как молодой, хорошо мне известный безусый корнет гвардейской кавалерии из семьи, всецело обязанной государю, воспитывавшийся на его счет и получавший от него ежегодно пособие для службы в полку, хвастливо, с полным самодовольством говорил: «Вот мы вернемся с войны, наведем порядок и устроим переворот».
В некоторых домах доходили до того, что громко говорили о необходимости убийства императрицы.
Но если какое-то чувство подсказывало беспечным корнетам, что игру в революцию и наведение им известного порядка надо было отложить до конца войны, то это же спасительное чувство, видимо, молчало у вдумчивых профессоров-«политиков», бросавших во время войны на всю страну обвинение в измене, свившей себе гнездо не в семье только верховного главнокомандующего русской армии, а в семье царя всей России.
Было, значит, что-то высшее, более важное, что охватывало этих людей и заставляло их забывать все, когда они произносили свои «думские» зажигательные речи? Чувством беспредельной любви к Родине объяснялись ими их слова, но почему меня, не менее беспредельно и горячо любившего свою Родину, чем эти общественные деятели, те же самые слова наполняли негодованием, доходившим почти до ненависти, и казались мне преступными и бесчестными?
Почему нас не соединяло, а наоборот, так резко разъединяло одно и то же чувство, одинаково властно, казалось бы, владевшее нами?
Вероятно, потому, что я видел и чувствовал одно – им было дано видеть и чувствовать другое.
Мы были одинаково сильно убеждены, но свои убеждения черпали из разных источников: мне нужны были ясные доказательства, и они у меня были – я черпал их не только из хорошо мне известных фактов, но и из сознания, что русского из русских и по убеждению, и по положению царя даже враг, при всем желании, не мог обвинить в измене России, – они довольствовались лишь собственными предположениями или болтовней далекой иностранной печати и на них строили свои громогласные обвинения.
У них, быть может, и была искренняя любовь к Родине, но не было благородных стремлений к выяснению правды, к беспристрастию, одним словом, не было той искренней политической частности, без которой и любовь к Родине в моих глазах являлась лишь пустым звуком, принося лишь вред.
Обвинителями на этом строгом суде Думы были все те же неопределенные слухи, та же сплетня, та же клевета. Они не были теми «неоспоримыми» доказательствами, из коих слагалось тогдашнее «общественное» мнение.
Противостоять такому неуловимому напору почти всегда невозможно. Правда, Бисмарк любил говорить, что «Эскадрон кирасир всегда сильнее общественного мнения». Сказано смело, находчиво, но и очень пренебрежительно – применимо, пожалуй, только к крикливым парламентам или болтливым не в меру политическим клубам, да и то лишь в начале. В исторической действительности намного чаще «болтовня» общественного большого мнения побеждала не только кавалерийский эскадрон и верную швейцарскую гвардию, но порою и целые армии. Если Французскую революцию, по словам Наполеона, «сделало когда-то честолюбие», то нашу, будущую революцию, если она когда-либо будет, – думал я, – сделает, конечно, не это чувство и не «священный гнев народа», а все-таки хотя и властная, но мелкая грязная сплетня с ее неизбежным, еще более отвратительным спутником – клеветой.
Я не думал, что мои горькие рассуждения окажутся такими пророческими для недалекого будущего. Но логически другого, более достойного, непосредственного возбудителя я в тогдашние месяцы не находил. Не нахожу его и теперь, после долгого раздумья обо всем совершившемся.
«Для того чтобы революция была возможна, – говорил и Поль Бурже, – необходимы два условия: первое, чтобы обладатель верховной власти был слишком добр; второе, чтобы правитель был унижен в общественном мнении целой кампанией клеветы, немного похожей на правду…» Все это было в моей затуманенной Родине тогда налицо…
Такова была в моих глазах обстановка начала тек позорных грязных событий, отнявших от меня все дорогое, священное, с чем была связана моя жизнь с самого детства. Эти дни еще свежи в моей памяти. Я в них вступал тогда с мыслями, верованиями и наблюдениями, изложенными выше, и тем неожиданнее и больнее обрушились они на меня…
Постараюсь возможно подробнее передать их по дням…
О проекте
О подписке
Другие проекты
