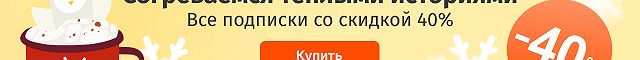
Глава Вторая. Гаврюша Горыныч
Бодрый стук в дверь застал Ивана за вознёй с чайником. Можно было, конечно, и Явись напрячь. Но Иван любил утренние минуты уединённости и не хотел омрачать их лишней суетой.
Незапланированный визит застал его врасплох, но, похоже, в деревне всё было запросто. От неожиданности Иван едва не пролил кипяток себе на ногу. Торопливо поставил чайник обратно на подставку и зачем-то одёрнул толстовку. Первый посетитель, как-никак. Хотя за дверью мог оказаться кто угодно. Только жаль было – так и не выпитой утренней чашка чая.
– Принимай, Иван, первого клиента! – бодро оповестил, обнаруженный на крыльце председатель, и подтолкнул в спину мелкого лохматого подростка, маячившего тут же. Пацан от толчка сделал несколько шагов вперёд и снова встал как вкопанный. – Племяш мой, можно сказать. Троюродный…
– Не клиента, а посетителя, – машинально поправил Иван и посторонился, чтобы дать пацану возможность пройти в сени. Однако тот так и продолжал стоять на крыльце, упрямо рассматривая носки своих изрядно потрёпанных кроссовок.
– Проблема у него… интимная! – снова хохотнул председатель и зачем-то скрутил из узловатых костлявых пальцев дулю, словно иллюстрируя таким образом проблему. Уши пацана побагровели, а голова опустилась ещё ниже. Казалось, ещё чуть-чуть – и он воткнётся ею в пол, на манер страуса, прячущегося от внешнего мира.
Иван посмотрел на дулю, скрученную председателем, потом на уши пацана. Решительно взял того за плечо и впихнул в избу.
– Пошли-ка, чай пить, – пробасил он миролюбиво, проходя следом и заслоняя своей широкой спиной проём от председателя. Тот намёка не понял и всё-таки попытался просочиться за пацаном в избу, явно рассчитывая и на чай, и на обстоятельный разговор. Иван, скрывая улыбку, достал с полки ещё одну чашку в весёленький голубой цветочек. Щедро сыпанул в неё заварки, залил кипятком и только потом обратился к председателю:
– Захар Никодимыч, раз проблема интимная, значит, и решать мы её будем вдвоём с… Как тебя величать?
С этими словами он повернулся к пацану, который мялся у лавки, явно испытывая все существующие на свете оттенки неловкости.
– Гаврюша он, – сообщил председатель, с тоской оглядывая чашки на столе. Чашек было две, народу в избе – три, и эта математическая задачка явно не складывалась в председательской голове.
– Не, Гаврюша, а Гавр! – шмыгнул носом пацан, наконец отмирая и гневно зыркая на председателя. Потом поднял глаза на Ивана и назвался: – Гавр Горыныч.
Иван мысленно присвистнул, потому что род Горынычей себе представлял совершенно по-другому. Подросток был мелок, если не сказать щуплый. Мясцо на его тонкие косточки, видать, нарастало плохо. Кроме того, рыжие нечесаные лохмы и трогательные брызги веснушек на красных от смущения щеках настраивали на несерьёзный лад. Однако от комментариев Иван воздержался. Кто их, Горынычей, знает. Отъестся, возмужает – и ещё покажет всем кузькину мать.
– Ладно, пойду я, – сдался председатель, приняв, наконец, тот факт, что никто его тут чаем поить не собирается. – Дел невпроворот.
И, нахлобучив на голову шапку-ушанку, скрылся за порогом. Иван хлебосольно махнул в сторону лавки и предложил незадачливому Горынычу:
– Ты садись, садись, – и, видя, как тот продолжает нерешительно мяться, снова отвернулся к буфету, хлопоча по поводу угощения. – Тебе сколько сахара в чай? Или, может, ты с мёдом пьёшь? У меня, вроде, банка была…
– Мне три ложки, – тихо, но внятно отозвался Горыныч и тут же прокашлялся, видать, для солидности. – А лучше четыре.
Иван покивал понятливо, поставил на стол чашку, сахарницу и вазочку с сушками. Горыныч глянул с интересом и принялся устраиваться, перекидывая через лавку мосластые ноги. Иван расположился напротив и, наконец, сделал то, о чём мечтал всё утро: отпил щедрый шумный глоток чая с молоком и мёдом. Посидел, смакуя, и снова принялся рассказывать, неторопливо разгоняя неловкую тишину за столом.
– Я когда в Столице участковым врачом работал, мне коньяк и виски несли. И ведь не откажешься – народ обижается. Так у меня под конец этого добра, знаешь, сколько было?
Горыныч неопределённо хмыкнул, невольно включаясь в беседу, и потянулся к сахарнице. Неловкими подростковыми руками насыпал себе щедрые четыре ложки сахара и, поколебавшись, добавил пятую.
– Магазин можно было открывать, когда уходил, – продолжил Иван, заботливо пододвигая Горынычу миску с мёдом. – А я больше батончики люблю соевые. А их, естественно, не дарили. Не солидно.
– Фу! Соевые батончики! – скривился Горыныч, гремя ложкой в чашке. Лицо его, наконец, приобрело нормальный цвет, хотя уши так и продолжали хранить свекольный оттенок. – Я сам тоже, считай, из Столицы. В НГУ прошлым летом поступил. Тут у бабки на каникулах ошиваюсь. Только батончики соевые не люблю. Вот «Мишки на Севере» – это вещь!
– НГУ? – оживился Иван. Хотя чему удивляться. НГУ был фактически единственным высшим учебным заведением в Столице, которое принимало навных. – Навный Главный Университет? А какой факультет?
– Лиховедение, ессно, – возмутился Горыныч.
– Мать моя! – восхитился Иван. – Ядвига Орлановна жива ещё? Она вроде ведовство преподавала.
– Яруха-то? – ухмыльнулся Горыныч, окончательно расслабляясь. – Да она вечная!
И без всякого перехода вдруг взял быка за рога:
– Мне хвост отрезать надо!
– Чего? – опешил Иван, застывая с чашкой в руке.
– Хвост, говорю, отрезать! – повторил Горыныч и первый раз за всё утро посмотрел Ивану прямо в глаза. – Ну или как там у вас говорят, по-научному? Купировать? Отсечь? Удалить? Сможете? Мне можно даже без наркоза. Вы не думайте. Я к боли нечувствительный. Я закалялся. Булавками себя тыкал. Для воспитания силы воли…
– Так, погоди ты со своими булавками! – Иван со стуком поставил на стол чашку с недопитым чаем и выставил ладонь в сторону Горыныча, чтобы прекратить этот отчаянный поток слов. У парня явно наболело. – Давай-ка всё с начала и по порядку.
Вместо ответа Горыныч решительно отъехал от стола вместе с тяжёлой массивной лавкой, доказывая, что силы в нём гораздо больше, чем казалось на первый взгляд, и закатал штанину обтрепавшихся по краю джинсов.
– Вот, – сказал он вместо объяснений. – Сами смотрите!
Иван перегнулся через стол и присвистнул: под штаниной обнаружилась худая бледная лодыжка, к которой суровым скотчем, в несколько слоёв, был прикручен… хвост. Длинный – доставал аж до щиколотки, такой же рыжий, как его обладатель, и заканчивающийся трогательной кисточкой-сердечком. Словом, не хвост, а загляденье. И откуда только такой у Горынычей? Чёрные, блестящие, чешуйчатые у тех были хвосты. Иногда с шипами. Но это…
– Поближе посмотрю? – обронил Иван деловито, уже обходя вокруг стола и садясь на корточки.
– Да пожалуйста… – Горыныч закатал штанину повыше, являя ногу, упакованную так, словно её собирались послать по почте. Иван аккуратно пощекотал пальцем рыжую кисточку – единственное, что торчало из сурового плена. Та тут же ожила и мелко вздрогнула.
– И за что ты его так? – улыбнулся Иван.
Горыныч нахмурился и выпалил:
– Так он не слушается! У него свой разум. Хотя какой там разум! Одноклеточное! Одни хотелки глупые!
– Давай-ка это всё размотаем для начала, – велел Иван и снова потопал к буфету. Выдвинул ящик, загремел там всяким барахлом и, выудив ножницы, довольно кивнул сам себе.
– Можно я штаны снимать не буду? – снова побагровел Горыныч.
– Можно, – великодушно разрешил Иван. – Только штанину повыше закатай.
Кончик хвоста заинтересованно вздрогнул и напряжённо замер, пока Иван аккуратно, слой за слоем, срезал слипшийся скотч.
– Давно началось-то? – спросил Иван, споро орудуя ножницами.
– Ну… – шмыгнул носом Горыныч. – Бабка рассказывала, что в детстве мы с ним чуть ли не друзьями были. Братьев-сестёр у меня нет, а хвост и игрушка, и приятель, и главное развлечение. Вот я и крутился на одном месте – старался его зубами ухватить ко всеобщему восторгу. Потом я вырос, а этот – нет! – тут Горыныч выразительно кивнул на хвост, который по мере освобождения оживал всё больше и теперь не льнул к горынычевой ноге, а плавно покачивался у руки Ивана, словно раздумывая, как к тому относиться. – А к школе стало понятно, что от него одни проблемы. Вот, к примеру, мать спрашивает, я ли конфеты шоколадные из вазочки съел. Я отрицательно башкой машу, а эта зараза виляет довольно. А когда она меня в первый класс привела, так вообще – вокруг её ноги обвился и не отпускал. Трус! Вот хохота было. Или вот, классуха спрашивает: ты домашку сделал? Я киваю, что да, а этот башку мне чешет в раздумьях! А потом и вовсе начинает дёргаться, потому что за окном на пустыре в футбол гоняют, а ему тут у доски маяться приходится, видите ли. Представляете? Предатель!
Горыныч по мере повествования входил в раж и теперь в волнении махал руками и дрыгал ногой, сильно затрудняя Ивану задачу. Хвост же, напротив, вёл себя спокойно, словно опровергая все обвинения.
– Классуха – кто у нас? – пробормотал Иван, придерживая Горыныча за его худую лодыжку одной рукой и примеряясь, чтобы подцепить ножницами последний виток скотча.
– Классная смотрительница, – чуть подостыл Горыныч, но всё так же продолжал ябедничать. – И главное, если бы он хоть выглядел круто. А лучше бы вообще вместо хвоста крылья, как у Анчутки Банник. Так ведь нет! Вы кисточку эту ужасную на конце видите? Это что за помпон для шапки?!
Горыныч опять разошёлся. Иван же размотал все слои скотча и теперь рассматривал виновника переполоха, не торопясь делать выводы и справедливо полагая, что парень ещё не выговорился.
– Короче, подставляет меня по полной! – закатил глаза Горыныч. – Школа ладно. Но в универе он совсем от рук отбился. Самый край был, когда он Банник вокруг пояса обмотался и держался так, что никто отодрать не мог. Нас обоих с ней пришлось в медпункт тащить и там спазматический укол ставить, чтобы расцепиться! Весь факультет угорал.
– Спазмолитический, – машинально поправил Иван, с трудом воздерживаясь от улыбки. Горынычу, судя по всему, и так пришлось несладко. При воспоминании о том ужасном дне он стал ярче малинового варенья.
– Чего? – запнулся Горыныч.
– Укол, говорю, спазмолитический, – пояснил Иван и спросил осторожно: – А эта Анчутка… Банник. Она тебе нравится?
– Мне?! – возмутился Горыныч, багровея ещё сильнее, хотя сильнее, казалось, уже было некуда. Лоб его покрылся испариной. – Она дылда и старшая! И ржёт всё время как лошадь! И всё время надо мной!
– Это многое объясняет, – усмехнулся Иван. Потом аккуратно ткнул хвост пальцем и приветливо раскрыл ладонь. Хвост замер. Некоторое время ничего не происходило, однако уже через несколько секунд рыжая пушистая кисточка мягко тронула пальцы, покружила недоверчиво над ладонью и легко скользнула по запястью, обвивая вокруг.
– Ты чего творишь опять?! – зашипел Горыныч, словно у хвоста где-то в придачу к кисточке могли быть ещё и свои собственные уши.
Иван погладил хвост свободной рукой. Ноги у него от сидения на корточках окончательно затекли, и он решил эту проблему просто – плюхнувшись задницей прямо на пол, на гладкие, уже чуть нагретые утренним солнцем половицы. Заодно и проверил, как домовой хозяйство ведёт. Ни одной пылинки не просматривалось. Даже по дальним углам, которые с пола прекрасно было видно. Горыныч неловко возился на лавке, не зная, как поступить, пока его хвост наглаживали.
– А ты пословицу знаешь? – наконец спросил Иван.
– Какую такую пословицу? – насупился ещё больше Горыныч.
– В народе говорят: «Хвост лучше знает», – пояснил Иван, не спеша вставать с пола.
– Дурацкая. Ничего он знать не может. У него мозгов нет.
– Зато у тебя есть, – усмехнулся Иван, думая, что объяснять перекачанному гормонами первокурснику простую истину про гармонию и способность жить в ладу с самим собой наверняка бесполезно. Сейчас главное – чтобы глупостей не наделал. А то рубанёт ножницами под самый корень – потом жалеть будет. Если, конечно, от болевого шока оправится. Это ему, Ивану – взрослому мужику, понятно, что некая Анчутка Банник, которая по молодости Горынычу тоже задачу не упрощает, нравится тому до безумия. Что у Горыныча первая, неловкая, студенческая влюблённость. А хвост живёт инстинктами. Льнёт к тому, с кем хорошо, сторонится того, что напрягает. Обнимает ту, которая Горынычу сердце разбередила.
Иван почесал за ухом и начал, аккуратно подбирая слова:
– Давай так! Ничего купировать я тебе пока не буду. У нас тут хороший, здоровый хвост. Без патологий и отклонений. А купирование может много чего побочного вызывать. Особенно того, что потом в зрелом возрасте аукнется. Я пока буду тебя наблюдать.
Горыныч молчал и хмуро разглядывал хвост, который уже успел несколько раз обвиться вокруг запястья Ивана на манер плюшевых браслетов.
– Ну оно тебе надо? – зашёл с другой стороны Иван. – Операция, бинты, кровища…
Горыныч заметно побледнел. Кадык его судорожно дёрнулся.
– Давай я лучше тебе выпишу кое-что, – предложил Иван. – Будешь принимать три раза в день по чайной ложке. Строго натощак. И ни капли больше. Лекарство сильное!
– Запишу сейчас, – засуетился Гаврюша, обхлопывая себя по бокам. – Вот ведь… Ручка куда-то запропастилась… Неужели посеял? Папкин подарок. Серебряная…
О проекте
О подписке
Другие проекты