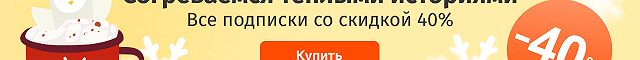
Образ жизни в Боссе так подходил для меня, что если б он продлился дольше, то окончательно определил бы мой характер. Чувства нежные, благожелательные, мирные составляли его основу. Думаю, что никогда ни одно человеческое существо не было от природы менее тщеславно, чем я. Я поднимался порывами до возвышенных движений души, но тотчас же снова впадал в обычную вялость. Быть любимым всеми близкими было моим живейшим желанием. Я был кроток; мой двоюродный брат тоже; наши воспитатели сами были такими же. За целые два года я не стал ни свидетелем, ни жертвой каких-либо злобных чувств. Все питало в моем сердце склонности, заложенные природой. Самой большой радостью для меня было видеть, что все довольны мной и всем вокруг. Я всегда буду помнить, что в храме, когда я запинался, отвечая по катехизису, ничто так не смущало меня, как признаки беспокойства и огорчения на лице мадемуазель Ламберсье. Одно это удручало меня больше, чем стыд публичного промаха, хотя и это до крайности волновало меня; и я могу здесь сказать, что ожидание выговора от мадемуазель Ламберсье тревожило меня гораздо меньше, чем боязнь огорчить ее.
Однако она, как и ее брат, не упускала случая, когда это было необходимо, проявить строгость, но строгость эта, почти всегда справедливая, никогда не переходила границ и поэтому только огорчала, но не возмущала меня. Я больше боялся не угодить, чем понести за это кару, и признак неудовольствия был для меня тягостней телесного наказания. Мне неудобно высказаться яснее, однако нужно сделать это. Как поспешили бы изменить методу обращения с детьми, если бы лучше видели отдаленные последствия той методы, которую постоянно применяют без разбора и часто безрассудно! Великий урок, который можно извлечь из примера, столь же обычного, сколь пагубного, вынуждает меня привести его.
Так как мадемуазель Ламберсье любила нас, как мать, она пользовалась и материнской властью, простирая ее до того, что подвергала нас порой, когда мы этого заслуживали, наказанию, обычному для детей. Довольно долго она ограничивалась лишь угрозой, и эта угроза наказанием, для меня совершенно новым, казалась мне очень страшной, но после того, как она была приведена в исполнение, я нашел, что само наказание не так ужасно, как ожидание его. И вот что самое странное: это наказание заставило меня еще больше полюбить ту, которая подвергла меня ему. Понадобилась вся моя искренняя привязанность, вся моя природная мягкость, чтобы помешать мне искать случая снова пережить то же обращение с собой, заслужив его; потому что я обнаружил в боли и даже в самом стыде примесь чувственности, вызывавшую во мне больше желания, чем боязни снова испытать это от той же руки. Правда, к этому, несомненно, примешивалась некоторая доля преждевременно развившегося полового инстинкта, и то же наказание, полученное от ее брата, вовсе не показалось бы мне приятным. Впрочем, зная его характер, мне нечего было опасаться такой замены; и если я не старался заслужить наказание, то исключительно из боязни рассердить мадемуазель Ламберсье; ибо так сильна надо мной власть доброжелательности, даже той, которая порождена чувственностью, что она всегда повелевала в моем сердце.
Повторение, которое я отдалял, боясь его, произошло без моей вины, то есть помимо моей воли, и я им воспользовался, могу сказать, с чистой совестью. Но этот второй раз был и последним – мадемуазель Ламберсье, несомненно, заметив по какому-то признаку, что это наказание не достигает цели, объявила, что она от него отказывается, так как оно слишком утомляет ее. До тех пор мы спали в ее комнате, а зимой иногда даже в ее постели. Через два дня нас перевели в другую комнату, и с тех пор я удостоился чести, без которой прекрасно обошелся бы: она стала обращаться со мной, как с большим мальчиком.
Кто бы мог подумать, что это наказание, которому подвергла восьмилетнего ребенка девушка тридцати лет, определило мои вкусы, мои желания, мои страсти, меня самого на всю остальную жизнь, и как раз в направлении, обратном тому, что должно было произойти естественным путем? В то время как во мне зажглась чувственность, желания мои так изменились, что, ограничившись испытанным, я не стал искать ничего другого. Хотя чуть ли не с самого рождения кровь моя была полна чувственного огня, я сохранил себя чистым и незапятнанным до того возраста, когда развиваются самые холодные и самые медлительные темпераменты. Мучаясь долго, сам не зная отчего, я пожирал пламенным взглядом красивых женщин; мое воображение беспрестанно напоминало их мне только для того, чтобы распорядиться ими по-своему и сделать их всех девицами Ламберсье.
Даже по достижении возмужалости этот странный вкус, по-прежнему упорный и доведенный до извращенности, до безумия, сохранил во мне благонравие, хотя, казалось бы, должен был лишить меня его. Если когда-нибудь воспитание было скромным и целомудренным, то именно такое воспитание я и получил. Три мои тетки отличались не только примерной рассудительностью, но и сдержанностью, давно уже незнакомой женщинам. Отец мой, охотник до наслаждений, но любезничавший по старой моде, никогда не заводил с женщинами, которых он любил, разговоров, способных заставить покраснеть девушку, и нигде уважение к детям не шло так далеко, как в моей семье; не менее внимательным ко мне в этом отношении был и г-н Ламберсье; одна очень хорошая служанка была выставлена им за дверь за какое-то немного вольное слово, сказанное при нас.
До своей юности я не только не имел ясного понятия о близости полов, но никогда смутное представление об этом не возникало у меня иначе, как в отталкивающем и противном виде. К публичным женщинам я чувствовал гадливость, которая осталась во мне навсегда; я не мог видеть развратника без чувства презрения, даже без ужаса; мое омерзение достигло высшей степени после того, как однажды, идя в Малый Сакконе по выбитой в горах дороге, я заметил по обеим ее сторонам углубления в земле, в которых, как мне говорили, эти люди совершали свои совокупления. То, что я наблюдал у собак, тоже всегда приходило мне на ум, когда я думал об этом, и от одного этого воспоминания меня начинало тошнить.
Эти предрассудки воспитания, сами по себе способные сдержать первые вспышки пылкого темперамента, как и сказал, получили поддержку в уклонении, которое вызвали у меня первые проявления чувственности. Рисуя в воображении лишь то, что перечувствовал, я, несмотря на кипение крови, причинявшее мне сильное беспокойство, мог устремлять свои желания только к известному мне виду сладострастья, никогда не доходя до другого, который мне сделался ненавистным и который был так близок к первому, хотя я об этом и не подозревал. В своих глупых фантазиях, в своих эротических исступлениях я прибегал к воображаемой помощи другого пола, не подозревая, что он пригоден к иному обращению, чем то, к которому я пламенно стремился.
Таким образом, обладая темпераментом очень пылким, очень сладострастным, очень рано пробудившимся, я тем не менее прошел возраст возмужалости, не желая и не зная других чувственных удовольствий, кроме тех, с какими познакомила меня, совершенно невинно, мадемуазель Ламберсье, а когда время сделало меня наконец мужчиной, случилось так, что меня опять спасло то самое, что должно было бы погубить. Моя прежняя детская склонность, вместо того чтобы исчезнуть, до такой степени соединилась с другой, что я никогда не мог отделить ее от желаний, зажженных чувственностью. И это безумие, в сочетании с моей природной робостью, делало меня всегда очень непредприимчивым с женщинами; у меня не было смелости все сказать или возможности все сделать, ибо тот род наслаждения, по отношению к которому другое было для меня лишь последним пределом, не мог быть самостоятельно осуществлен тем, кто его желал, ни отгадан той, которая могла его доставить. Всю жизнь я вожделел и безмолвствовал перед женщинами, которых больше всего любил. Никогда не смея признаться в своей склонности, я по крайней мере тешил себя отношениями, сохранявшими хотя бы представление о ней. Быть у ног надменной возлюбленной, повиноваться ее приказаниям, иметь повод просить у нее прощения – все это доставляло мне очень нежные радости; и чем больше мое живое воображение воспламеняло мне кровь, тем больше я походил на охваченного страстью любовника. Понятно, что этот способ ухаживания не ведет к особенно быстрым успехам и не слишком опасен для добродетели тех, кто является их предметом.
Таким образом, я очень мало обладал, но это не мешало мне наслаждаться по-своему, то есть в воображении. Вот каким образом мои чувственные стремления, в согласии с моим робким характером и романтическим складом ума, сохранили в чистоте мои чувства и мою нравственность; но те же самые наклонности, возможно, погрузили бы меня в самое грубое сладострастие, будь у меня больше бесстыдства.
Я сделал первый и самый тягостный шаг в темном и грязном лабиринте моих признаний. Трудней всего признаваться не в том, что преступно, а в том, что смешно и постыдно. Отныне я уверен в себе; после того, что я только что осмелился сообщить, ничто уже не может остановить меня. Чего стоят мне подобные признания, можно судить по тому, что в течение всей моей жизни меня не раз увлекало безумие страсти возле тех, кого я любил, лишая меня способности видеть и слышать, пронизывая все мое тело судорожным трепетом возбуждения, но никогда не мог я отважиться признаться в моем безумии, не мог даже в самых интимных отношениях умолять о единственной милости, которой мне недоставало. Это случилось со мной только раз, в детстве, с девочкой моих лет, да и то предложение исходило от нее.
Восходя таким образом к первым проявлениям моих чувствований, я нахожу в них элементы, кажущиеся иной раз несовместимыми, но тем не менее соединившиеся, чтобы с силой произвести действие однородное и простое; и нахожу также другие, с виду тождественные, но образовавшие благодаря стечению известных обстоятельств столь различные сочетания, что трудно представить себе, чтобы между ними была какая-нибудь связь. Кто подумал бы, например, что один из самых могущественных двигателей моей души исходил из того же источника, из которого в мою кровь лились изнеженность и сладострастье? Не покидая предмета, о котором только что шла речь, я покажу, сколь несходное впечатление произвел он в другом случае.
Как-то раз, оставшись один, я учил урок в комнате, смежной с кухней; служанка положила сушить на плиту гребенки мадемуазель Ламберсье. Когда она вернулась за ними, оказалось, что у одной гребенки половина зубьев сломана. Кто виновник этого? Никто, кроме меня, не входил в комнату. Меня допрашивают; я утверждаю, что не трогал гребенки. Г-н Ламберсье и его сестра убеждают меня, угрожают мне, наступают на меня, – я упрямо стою на своем; но улика была слишком очевидна, она пересилила все мои возражения, хотя впервые было замечено, что я лгу так дерзко. К делу отнеслись серьезно: оно того стоило. Злость, ложь, упорство казались одинаково заслуживающими наказания; но, на беду, уже не мадемуазель Ламберсье произвела его надо мной. Написали моему дяде Бернару; он приехал. Мой бедный двоюродный брат был обвинен в другом, не менее тяжком проступке, и мы оба подверглись одному наказанию. Оно было ужасно. Если бы, ища лекарства в самой болезни, пожелали навсегда подавить мои извращенные чувства, то и тогда не могли бы лучше взяться за дело. И нужно сказать, что чувства эти надолго оставили меня в покое.
У меня не удалось вырвать требуемое признание. Меня призывали к ответу много раз, довели до ужасного состояния, но я был непоколебим. Мне легче было умереть, и я решился на это. Самой силе пришлось сдаться перед дьявольским упрямством ребенка – так называли мою стойкость. Наконец я вышел из этого ужасного испытания, истерзанный, но торжествующий.
Прошло почти пятьдесят лет со времени этого происшествия, теперь мне нечего бояться наказания за тот случай, и вот я объявляю перед лицом неба, что я был в нем неповинен, что я не ломал и не трогал гребня, не подходил к плите и даже не думал об этом. Пусть меня не спрашивают, как сломался гребень, – я этого не знаю и не могу понять; знаю одно только, что в этом я был неповинен.
Пусть представят себе характер, робкий и покорный в повседневной жизни, но пламенный, гордый, неукротимый в страстях, характер ребенка, всегда повиновавшегося голосу рассудка, всегда встречавшего обращение ласковое, ровное, приветливое, не имевшего даже понятия о несправедливости и в первый раз испытавшего столь ужасную несправедливость со стороны людей, которых он любил и уважал больше всего. Какое крушение понятий! Какое смятение чувств! Какой переворот в сердце, в мыслях, во всем его духовном, нравственном существе! Я говорю: пусть представят себе все это, если возможно, а я совершенно не способен разобрать и проследить во всех мелочах то, что происходило тогда во мне.
У меня еще недоставало разума, чтобы понять, насколько видимость обличает меня, и поставить себя на место других. Я стоял на своем и чувствовал только суровость страшного возмездия за преступление, которого я не совершил. Телесная боль, хотя и сильная, была для меня мало чувствительна; я испытывал только негодование, бешенство, отчаяние. Мой двоюродный брат, находясь приблизительно в том же положении, будучи наказан за невольную ошибку, как за умышленный проступок, приходил в ярость по моему примеру и, так сказать, настраивал себя на один лад со мной. Лежа в одной постели, мы судорожно сжимали друг друга в объятиях, мы задыхались, и когда наши юные сердца, немного успокоившись, были в состоянии излить свой гнев, мы поднимались на нашем ложе и изо всех сил кричали: «Carnifex! Carnifex! Carnifex!»[4]
И сейчас еще, когда пишу эти строки, я чувствую, как учащается мой пульс; эти минуты будут всегда у меня в памяти, хотя бы я прожил сто тысяч лет. Первое ощущение насилия и несправедливости так глубоко запечатлелось в моей душе, что все мысли, связанные с ним, будят во мне и прежнее волнение; и это чувство, в своем истоке относившееся лично ко мне, так упрочилось и так отрешилось от всего личного, что при виде любого несправедливого поступка или даже при рассказе о несправедливости, над кем бы и где бы ее ни совершили, – мое сердце так горит негодованием, как будто я сам являюсь жертвой. Когда я читаю о жестокостях свирепого тирана, об изощренном коварстве лицемера-священника, я охотно пустился бы в путь, чтобы заколоть этих презренных, хотя бы при этом мне пришлось сто раз погибнуть. Я часто вгонял себя в пот, стараясь догнать или попасть камнем в петуха, корову, собаку, всякое животное, на моих глазах мучившее другое животное единственно потому, что было сильнее. Это чувство, возможно, у меня врожденное, и думаю, что это так; но впечатление от первой несправедливости, испытанной мною, было столь долго и крепко с ним связано, что значительно усилило его.
И вот пришел конец моей ясной детской жизни. С этого момента я перестал наслаждаться невозмутимым счастьем, и даже теперь чувствую, что воспоминания о прелестях моего детства на этом кончаются. Мы оставались в Боссе еще несколько месяцев. Мы переживали то, что переживал первый человек, еще не изгнанный из рая, но уже переставший наслаждаться им: все было как будто прежним, но на деле жизнь пошла совсем по-другому. Привязанность, дружба, уважение, доверие уже не соединяли больше учеников и воспитателей; мы уже не смотрели на них, как на богов, читающих в наших сердцах; мы уже меньше стыдились дурных поступков и больше боялись быть уличенными, мы стали скрываться, противоречить, лгать. Все пороки, свойственные нашему возрасту, развращали нашу невинность и безобразили наши игры. Даже сельская жизнь утратила в наших глазах обаяние сладостного покоя и простоты, идущих прямо к сердцу; она казалась нам теперь пустынной и мрачной; она как бы покрылась пеленой, скрывавшей от нас ее красоту. Мы перестали ухаживать за своими садиками, за цветами и травами. Мы уже не копались в земле и не вскрикивали от радости, видя, что брошенное в нее зерно дало росток. Нам надоела эта жизнь, и мы надоели воспитателям; мой дядя взял нас, и мы расстались с г-ном и с мадемуазель Ламберсье пресыщенные друг другом и мало сожалея о разлуке.
Почти тридцать лет прошло со времени моего отъезда из Боссе, и я ни разу не вспомнил о пребывании там с удовольствием и сколько-нибудь связно. Но с тех пор как, перейдя зрелый возраст, я стал клониться к старости, я замечаю, что эти воспоминания возникают вновь, вытесняя все другие, и запечатлеваются в моей памяти и образах, очарование и сила которых растет с каждым днем; как будто я уже чувствую, что жизнь ускользает, и стараюсь поймать ее у самого начала. Мельчайшие события того времени милы мне единственно потому, что они относятся именно к тому времени. Я вспоминаю во всех подробностях все места, всех людей, часы дня. Вижу служанку и лакея, убирающих комнату; ласточку, влетающую в окно; муху, садящуюся мне на руку, в то время как я отвечаю урок; вижу убранство комнаты, где мы находились: шкаф г-на Ламберсье по правую руку, гравюру, изображающую всех пап, барометр, большой календарь, кусты малины, которые затеняли окно и порой тянулись в комнату из сада, расположенного выше, нежели наш дом, выходивший в него задним крыльцом. Я хорошо понимаю, что читателю не очень нужно все это знать, но мне-то очень нужно рассказать ему об этом. Отчего мне не решиться поведать все маленькие происшествия того счастливого возраста, заставляющие меня еще и сейчас вздрагивать от радости, когда я вспоминаю их. Среди них есть пять или шесть, о которых мне особенно хотелось бы упомянуть. Договоримся. Я избавлю вас от пяти, но хочу сообщить об одном-единственном – при условии, что мне позволят рассказывать как можно дольше, чтобы продлить мое удовольствие.
Если б я думал только о вашем удовольствии, я мог бы выбрать происшествия с мадемуазель Ламберсье, зад которой, вследствие ее неудачного падения на покатом лугу, предстал во всей красе перед сардинским королем во время его проезда; но происшествие с ореховым деревом на площадке для меня более занимательно, так как тут я был действующим лицом, а при падении мадемуазель Ламберсье – только зрителем; и, признаться, мне ничуть не хотелось смеяться над этим случаем, хотя и комичным самим по себе, но огорчившим меня, так как он произошел с особой, которую я любил, как мать, а может быть, и больше.
О вы, читатели, жаждущие услышать великую повесть об ореховом дереве на площадке, выслушайте эту ужасную трагедию без содрогания, если можете!
Возле двора, слева от ворот, была площадка со скамейкой, на которой часто сидели днем, но в этом месте совсем не было тени. Чтобы создать ее, г-н Ламберсье посадил там ореховое дерево. Посадка была произведена торжественно: оба питомца были восприемниками, и пока закапывали яму, мы держали дерево каждый одной рукой, распевая победные песни. Для поливки вокруг дерева устроили нечто вроде бассейна. Каждый день, жадно созерцая эту поливку, мы с двоюродным братом все более укреплялись в очень естественной мысли, что гораздо лучше посадить дерево на площадке, чем водрузить знамя на вражеской крепости, и мы решили добыть себе эту славу, не разделяя ее ни с кем.
О проекте
О подписке
Другие проекты
