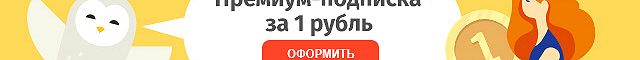
Часть вторая
«БЕЗУМИЕ»
1
Что же было тогда?..
Четыре долгих года набирая сумасшедшую скорость, поезд войны ворвался в Германию, как бы вонзаясь раскаленными колесами в каменный тупик огромного поверженного Берлина, торчащего из горячей земли мрачными скалами обгрызанных бомбежками домов с чернеющими глазницами окон, наглухо закрытыми подъездами, где мертво остановились лифты, где на площадках лестниц не пахло из затихших квартир немецкими супами и не слышно было ни шагов, ни стука дверей, ни обыденно приветливых голосов раскланивающихся в подъезде соседей, ни этих вежливых «данке шен», «битте зер» – везде стыла сумеречная тишина пустыни, без единого во всем городе выстрела. Последняя оборона Берлина – рейхсканцелярия и рейхстаг пали. Все было кончено. Несколько дней неистово бушевавшие в городе пожары понемногу стихли, всюду нехотя рассеивались угарные дымы, и, словно из кровавого аспидного месива, постепенно выявлялись площади и улицы, загроможденные угольными телами обгорелых танков, развороченными баррикадами, поваленными на исколотый снарядами брусчатник трамваями, и проступали тенями согнутые фонарные столбы, завалы обугленных кирпичей, еще теплых, еще курившихся. И на опустелых мостовых, перед баррикадами и за баррикадами, на перекрестках и углах центральных улиц, зияющих проломами витрин, под полусорванными пулеметными очередями вывесками магазинов и парикмахерских, возле которых сверкали груды расколотого зеркального стекла, вблизи сожженных машин, бронетранспортеров, исковерканных орудий – везде валялись расплющенные гусеницами цилиндры немецких противогазов, смятые каски с темными знаками орлов, зловеще раздавленные велосипеды, переломанные детские коляски, клочки камуфляжных плащ-палаток, серые русские ватники, обрывки грязных бинтов, распростертые плоскими змейками, автомобильные скаты, разбросанные взрывной волной; и кое-где среди обвалившейся на тротуар, остро срезанной чем-то стены можно было видеть в обломках мебели затянутое кирпичной пылью пианино, его по-мертвецки разъятое, беспомощно ощеренное струнное нутро, а над хаосом разрушения – на верхнем этаже оставалась часть квартиры, часть стены, темнели прямоугольники на обоях от недавно висевших там фотографий, и люстра, чудом уцелевшая, стеклянным пауком покачивалась на паутине провода меж пробоин потолка.
Весь этот огромный зловещий город, сплошь каменный, в течение нескольких дней, содрогаясь смертельными судорогами, оскаливался огнем и будто извивался в дыму, озлобленно вскидывал толстые багровые щупальца танковых выстрелов, тонкие плети пулеметных очередей, хлещущих по пролетам улиц, выбрасывал реактивные молнии фаустпатронов из угрюмых квадратных глазниц подвалов – он выл, кипел, конвульсивно корежился, гремел, захлестнутый пожарами, еще втягивая в себя, пожирая, как гигантский молох, последние жертвы, он погибал, но еще выказывал свои девизы, свою неутоленную жадность к человеческой крови подтверждающими знаками на останках собственной плоти – на стенах домов, на мостовых, на заборах: «Berlin bleibt deutsch», «Schlag neun Russen tot», что означало: «Берлин остается немецким», «Убей девять русских».
Лишь 2 мая сникли пожары, но в воздухе висел горячий пар, напитанный удушающими запахами пепла, бетонной пыли, тяжкой горькостью жженых кирпичей с примешанным приторно-сладковатым душком где-то погребенных под развалинами трупов. В верху обозначенных после буйства огня каменных коридоров, над закопченными улицами свисали зацепившиеся за балконы обрывки простыней, белых тряпок, слабый ветерок шевелил их и шевелил в черных провалах золу холодеющих пепелищ, бумажный мусор на засыпанных стеклом мостовых, покачивал оборванные электролинии, вытянутые к тротуарам с крыш, закрученные кольцами вокруг разбитых фонарей.
Но так по-весеннему солнечен, мягок был тот майский день, так сияли, круглились в высоком голубом небе облака, такая шла по нему неправдоподобная тишина, такое распространялось по городу чудовищное безмолвие, что до боли наполнялся, плыл звон в ушах, и казалось, не было нигде в этом поверженном городе ни одного вооруженного солдата, ни обывателя.
Однако это было не так: Берлин, занятый солдатами, танками, орудиями, машинами, повозками, командными пунктами, хозяйственными частями, саперами, связистами, спустя три часа после завершающего выстрела возле забаррикадированных Бранденбургских ворот, в каком-то неожиданном торможении погрузился, как в воду, скошенный ничем не оборимым и оцепеняющим сном.
Это было почти повальное наваждение сна, не подчиненное уже сознанию, которое в неистовстве многожданного облегчения кричало, верило, ликовало, что кончилось последнее сопротивление в Берлине, последняя крепость – рейхстаг пал, и солдаты, бравшие Берлин, будто бы остановились на бегу с разжатым пределом исхода, пьяные возбуждением, свершившимся наконец счастьем, ошеломленные тишиной. Все, пошатываясь, расстегивали пропотевшие воротники гимнастерок, трясущимися от усталости пальцами сворачивали цигарки и тут же со слипающимися глазами, иные, даже не докурив на солнцепеке, валились под колоннами у нагретых ступеней рейхстага, на песчаные дорожки, на каменные плиты молчаливых кирх, на ковры богатых особняков, на постели брошенных квартир, валились, не раздеваясь и не откинув толстых стеганых бюргерских одеял, спали в танках и на снарядных ящиках, сидя на станинах орудий, стоя у котлов кухонь в неловких позах, лежа грудью на столах, на подоконниках, – пружина, сжатая четырьмя годами войны, наконец освобожденно разжалась, и ее крайней точкой окончательного разжатия были не еда, не глоток воды, а сон.
Сон этот, посреди еще местами дымившегося Берлина, продолжался несколько часов, и хотя бесперебойно работала только связь командных пунктов, непрерывно передавая в соседние армии, в Москву весть о прекращении огня в центре «логова», о падении рейхсканцелярии и рейхстага, о самоубийстве Гитлера, никто из через силу бодрствовавших строевых или штабных офицеров не нашел бы в себе человеческой воли поднять сваленных усталостью солдат, отдать приказ прежним командным голосом, никто сейчас не имел на это права.
Облитый теплым майским солнцем с бездонно сияющего неба, затихший Берлин глубоко спал, и, как в затянувшиеся ночные часы, повсюду наглухо закрыты были подъезды, опущены металлические жалюзи баров и уцелевших витрин, но в сумрачно затаенных квартирах чужие испуганные глаза жадно и быстро приникали к щелям ставней, должно быть, веря и не веря в то, что видели на улицах своего старого немецкого города. Ничто уже не напоминало былого масляного блеска и утренней чистоты вымытых мостовых, нигде не было видно на всей скорости скользящих по этому блеску длинных машин генерального штаба, педантично выбритых патрулей, офицеров в плащах с пелеринами; нигде уже не было обычных ежедневных прохожих, приподымающих шляпы при встречах, покупающих в киосках свежие газеты, и молоденький, хорошо причесанный, веселый кельнер в белоснежном переднике уже не нес на подносе кружку холодного янтарного пива, не перебегал деловито улицу от ближнего бара к парикмахерской, где брился какой-нибудь любитель разнеженно отдохнуть в кресле после душистой мыльной пены на щеках, мягкой бритвы, пахучего одеколона, после горячего компресса, приятно распарившего кожу лица.
Прежнего добропорядочного, строгорежимного и размеренного Берлина не было.
Батарея, в которой Никитин командовал взводом, наступала вместе с пехотой восточное Тиргартена по направлению к бункерам рейхсканцелярии, метр за метром продвигалась по широкой аллее, мимо какого-то глухого забора, – с той стороны сквозь отдаленное гудение танков жарко и часто рассыпалась автоматная пальба, простроченная грубыми очередями пулеметов. И раза два почудилось – донесся оттуда дикий утробный рев (так не мог кричать человек), и вездесущий подносчик снарядов Ушатиков, белобровый, длинношеий парень, по причине наивности не перестававший всему удивляться, подбежал к Никитину и, испуганно вытаращив голубиные глаза, сообщил, что в проломе забора вроде видны под деревьями клетки со зверями, и, кажись, слои на горке с поднятым хоботом ходит, а также наши, похоже, без выстрелов по дорожкам продвигаются, но по ним фаустники и автоматчики спереди лупят, и тридцатьчетверка перед мостиком горит.
Никитин по разговорам знал, что левее их дивизии введены в бой танки генерала Катукова, и в тот момент, когда Ушатиков сообщил о появлении тридцатьчетверок в зоопарке, почувствовал вдруг свои орудия вблизи бункеров и подумал только:
«Рядом».
Двое суток через проломы в домах, по навалам кирпича и щебня в бывших квартирах, через обваленные балки перекрытий батарея на руках подтягивала орудия до района Цоо. Северо-западные подходы к зоопарку простреливались днем и ночью мощными точками обороны на углах забаррикадированных улиц – проскочить на машинах было невозможно. А когда наконец выкатили первые орудия на влажную прошлогоднюю листву огромного парка, еще сырого, сквозистого, пахнущего осенней прелью, но уже молодо и нежно зеленеющего листочками, когда открыли огонь по ближним самоходкам, стоявшим полудугой за кустами, всю батарею охватило неудержимое, сумасшедшее неистовство.
Самоходки, медленно пятясь, отходили в чащу по каким-то знакомым им дорогам, вновь выползали на перекрестки аллей, пехота впереди залегала и подымалась, рассачивалась меж деревьев, автоматные очереди, беглые раскаты орудий срывали с сотрясаемых ветвей молодую листву, и дым выстрелов самоходок и выстрелов батарей, поспешно мелькающие в нем кометы разрывов сплошь скрыли черно-лиловой наволочью небо над парком, и потерялся отсчет времени – утро было, день или сумерки, – и появлялась отчаянная мысль, что потонувший в непробиваемой мгле этот парк не в центре Берлина, а отъединен от всего мира, что впереди нет нашей пехоты, нет никакого продвижения, нет ничего, кроме огня, грохота, лязга и дыма… Изредка уловимое гудение танков за бетонной оградой, дикий животный рев оттуда, и оскалы пламени в тьме аллей, и жирно дымившие на перекрестках троп самоходки, и упругое дрожание земли, вздохи, сопение, завывание тяжелых снарядов на разных воздушных этажах зачерненного поднебесья, и бесконечные молотообразные удары разрывов в близком городе, недалекие строчки очередей – все это смешалось, задержалось, не изменяясь, на одном месте, там, где должна была быть не достигаемая орудиями оборона немцев и где ее не было.
Но вечером около орудий возникли неожиданно люди, двое мальчишек-связистов из пехоты. Они с треском катушек, с живой перекличкой, будто и немцев нигде не было, протягивали в потемках неизвестно куда линию; пробегая мимо расчетов, закричали что-то озорное, грубое, подначивающее артиллеристов, разглядев не лица, а черные, в пороховой саже маски вместо лиц, и, несдержанно хохоча, сообщили, как выстрелили: «Наши в бункерах, во дворе одни мертвые фрицы! Хана там им полная! Оттуда на КП связь тянем! А Гитлера, усатого черта, не нашли там!»
И молниеносно пропали в темноте, прокладывая тонкий провод по ветвям деревьев, а Никитин, до тошнотного предела изнеможденный нескончаемым боем, вчерашним выкатыванием орудий через проломы в домах, увидев связистов, как-то потерял сразу азартно подгоняющее желание посмотреть ненавистную и долгожданную полосу сопротивления немцев, уже захваченную пехотинцами.
– Спать, – еле ворочая языком, безголосо выговорил он. – Кто хочет, принести воды, умыться и спать. До приказа.
Он так и не увидел эти бункера рейхсканцелярии. На рассвете, по холодку, его разбудили шум мотора, голоса – и он тревожно вскинулся на разостланных под орудием ветвях, отбросил шинель с головы. Рядом стоял часовой, наводчик третьего орудия Таткин, продрогший на ветерке парковой сырости, и зябко улыбался двойными заячьими губами в пшеничные усы, отпущенные, вероятно, для того, чтобы скрывать этот дефект.
– Что? – крикнул Никитин.
– Командир батареи прибыл, – ответил Таткин, покашливая и согреваясь нелепым приплясыванием. – Гранатуров-то наш… Да еще кухню приволок на автомобиле.
Вокруг было необычно тихо и светло. Нигде не раздавалось ни одного выстрела. Взвод спал между станинами на брезенте, прикрывшись шинелями. А посередине аллеи, неподалеку за орудиями, поблескивал новенький трофейный «опель» с прицепленной кухней, уютный дымок струился под деревьями, и старшина батареи, быкообразный, неповоротливый, напруживая багровую шею, отвинчивал при помощи повара крышку котла, видимо, очень горячую – оба то и дело отдергивали руки, мотали пальцами. И, похрустывая влажными листьями на газоне, от «опеля» крупными шагами шел командир батареи, старший лейтенант Гранатуров, поправляя мощными плечами накинутую длиннополую шинель, а из-под полы высовывалась перебинтованная кисть на марлевой перевязи. Матовое его лицо, заметное щегольскими косыми бачками и крючковатым носом с крутым вырезом ноздрей, всегда как бы готовое разозлиться, было сейчас оживлено. Он крикнул грубовато-весело:
О проекте
О подписке