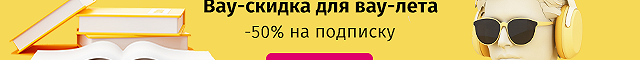
Глава 1. Стенания Гесиода
Мой отец был единственным левым из тех, кого я знаю, кто не мог понять, почему в прозвище Маргарет Тэтчер «Железная леди» находят нечто уничижительное. И я, должно быть, был единственным ребенком, которого воспитывали с верой в то, что золото – бедный родственник железа.
Моя катехизация волшебных свойств железа началась зимой 1966 года, запомнившейся мне лютыми морозами. Желая поскорее покинуть тесную съемную квартиру, в которой мы жили, пока перестраивался наш дом в Палеон-Фалироне – прибрежном пригороде Афин, родители посреди зимы перевезли нас обратно в не до конца достроенный дом еще до того, как в нем установили центральное отопление. К счастью, папа настоял, чтобы в нашей новой гостиной был приличный камин из красного кирпича. Именно там зимними вечерами, в отблесках его теплого сияния он знакомил меня со своими, как он их называл, друзьями, одним за другим.
Друзья моего отца. Его друзья прибыли к нам в дом в большом сером мешке, который он однажды вечером привез с фабрики, сталелитейного завода в Элефсисе, где он проработал инженером-химиком шестьдесят лет. Они не впечатляли. Некоторые выглядели как бесформенные камни: как я узнал позже, это были куски руды. Другие были столь же мало вдохновляющими – металлические прутья и пластины разных форм. Если бы не то, с какой любовью он выкладывал каждый из них на сложенную белую, вышитую вручную скатерть перед камином, я бы никогда не подумал, что они могут быть особенными.
Олово было первым другом, с которым он меня познакомил. Дав мне сначала подержать кусок, чтобы я почувствовал, что он мягкий, он поместил его в железный котелок, который поставил на пылающий в камине огонь. Когда олово начало плавиться, и блестящая жидкость заполнила котел, глаза у папы загорелись. «Всё твердое плавится и превращается в жидкость, а затем, при достаточном нагревании, превращается в пар. Даже металлы!» Как только он убедился, что я оценил величие перехода из твердого состояния в жидкое, мы вместе перелили жидкое олово в форму, погрузили ее в воду, чтобы охладить, а затем разбили, чтобы я мог снова взять олово в руки и убедиться, что наш друг снова в норме – что он вернулся в свое первоначальное состояние.
На следующий вечер мы экспериментировали с другим другом: длинным стержнем из бронзы. На этот раз великого перехода не было, так как температура плавления бронзы минимум в пять раз выше, чем у олова. Тем не менее конец стержня начал светиться ярким оранжево-красным цветом, и папа показал мне, как с помощью небольшого стального молотка придать его горячему кончику любую форму. Когда я наигрался, мы опять погрузили друга в холодную воду, чтобы вернуть его, холодного и не изменившегося, в первоначальное, ковкое состояние.
На третью ночь папа казался более воодушевленным, чем когда-либо. Он собирался познакомить меня со своим лучшим другом железом. Чтобы добавить напряженности моменту, он снял с пальца свое золотое обручальное кольцо и показал его мне. «Видишь, как блестит золото? – сказал он. – Люди всегда были влюблены в этот металл из-за его внешнего вида. Они не понимают, что это всё, что у него есть: оно всего лишь блестит – ничего особенного». Если бы я попросил, он был бы рад продемонстрировать, что, когда золото нагревают, а затем погружают в воду, чтобы снова охладить, оно, как олово и бронза, возвращается в свое прежнее состояние. Радуясь, что я не настаиваю на демонстрации, он перешел к своей любимой части.
Взяв кусок железной руды и посмотрев на этот скучный камень, словно Гамлет, созерцающий череп Йорика, папа торжественно произнес: «Итак, если хочешь увидеть по-настоящему волшебное вещество, вот оно! Это железо, волшебник в мире материалов». А затем он продолжил подкреплять свое заявление, подвергая железный прут тем же пыткам, которым мы подвергли его бронзовый аналог предыдущей ночью, но с парой существенных отличий.
Перед тем как нагреть его, он дал мне возможность постучать молотком по кончику прута, чтобы убедиться, что железо мягкое и почти такое же ковкое, как бронза. Поместив его в камин, мы с помощью небольших мехов раздували пламя, пока сияние раскаленного железа не окрасило тускло освещенную гостиную в алый цвет. Мы вытащили прут из камина и с помощью маленького молотка придали ему форму чего-то, что в моих мальчишеских глазах напоминало меч. Когда я опустил его в холодную воду, железо зашипело, словно торжествуя. «Бедный Полифем!» – загадочно заметил отец.
«Нагрей его снова», – сказал он. Я опять положил прут в огонь. «На этот раз погрузи его в воду прежде, чем он начнет светиться». Зачарованный шипением железа, я был рад, что мы повторили процесс «закалки», как его называют металлурги, три или четыре раза. Прежде чем я успел как следует полюбоваться своим новым мечом, папа объявил, что настал момент истины. «Подними молот и нанеси могучий удар по кончику меча», – приказал он.
– Но я не хочу его испортить, – запротестовал я.
– Давай же, сделай это, ты всё увидишь. Не жалей сил!
Я не пожалел. Молот ударил по кончику меча и отскочил. Я ударил еще раз. Потом еще и еще. Никакого эффекта. Мой меч был неуязвим. Он закалился.
Введение в исторический материализм для детей. Отец не мог сдержаться. То, что я наблюдал, объяснил он, было не просто магическим переходом – как в случае с расплавленным оловом, – а великой трансформацией. Да, медь помогла человеку покинуть доисторические времена: ее способность в сплаве с мышьяком и оловом превращаться в более твердый металл – бронзу – дала жителям древней Месопотамии, египтянам и ахейцам новые технологии, включая металлические плуги, топоры и искусственное орошение, что в конечном счете позволило им производить большие излишки сельскохозяйственной продукции, на которые финансировали как строительство великолепных храмов, так и вооружение смертоносных армий. Однако, для того чтобы разогнать ход истории до скорости, достаточной для порождения такого состояния общества, которое мы сегодня называем цивилизацией, человечеству требовалось что-то гораздо более твердое, чем бронза. Ему было нужно, чтобы плуги, топоры и металлические инструменты были столь же твердыми, как кончик моего меча. Ему было нужно научиться трюку, который показал мне отец в полумраке нашей гостиной: как превратить мягкое железо в закаленную сталь, проведя обряд его «крещения» в холодной воде.
Племена бронзового века, которые не научились крестить железо, утверждал он, исчезли.
Мечи облаченных в железо врагов пронзали их бронзовые щиты, их плуги не могли обрабатывать менее плодородные почвы, бронзовые скобы, скреплявшие их плотины и храмы, были слишком слабы, чтобы удовлетворить амбиции передовых архитекторов. Напротив, племена, которые овладели techne, искусством закалки железа, собирали обильные урожаи на обширных пашнях, побеждали на полях сражений, в мореплавании, в торговле и в искусстве. Магия железа лежала в основании новой роли технологии как движущей силы, которая привела к рождению цивилизации и сопровождающим ее проблемам.
Чтобы я не сомневался в культурной значимости нашего маленького эксперимента – и в наступлении железного века, – отец объяснил мне смысл реплики про «бедного Полифема», одноглазого великана, который, согласно Гомеру, заточил Одиссея и его спутников в пещеру, собираясь не торопясь пожирать их одного за другим. Чтобы обрести свободу, Одиссей дождался, пока Полифем уснет, напившись предложенного ему вина, обуглил деревянный кол на открытом огне, горевшем в пещере, и с помощью своих товарищей вонзил его в единственный глаз Полифема. «Помнишь, как тебя радовал звук шипящего железа?» – спросил папа. Гомер, должно быть, был так же впечатлен этим, судя по стиху в «Одиссее», который описывает этот жестокий момент:
Так расторопный ковач, изготовив топор иль секиру,
В воду металл (на огне раскаливши его, чтоб двойную
Крепость имел) погружает, и звонко шипит он в холодной
Влаге: так глаз зашипел, острием раскаленным пронзенный[2].
Одиссей и его современники жили до начала железного века и не могли знать, что шипение железа возвещает о молекулярной трансформации исторического значения. Но Гомер, живший через пару столетий после Троянской войны, родился на заре железного века и, таким образом, достиг зрелости в разгар технологической и социальной революции, которую произвела закаленная сталь. На случай, если бы я решил, что Гомер был исключением, папа указал на длительное влияние магии железа, процитировав Софокла, который четыре столетия спустя описал душу «закаленную, как погруженное в воду железо»[3].
Доисторическая эпоха сменилась исторической, сказал отец, когда бронза вытеснила каменные орудия. Широко распространившись после 4000 года до н. э., она породила могущественные цивилизации в Месопотамии, Египте, Китае, Индии, на Крите, в Микенах и других местах. Но тем не менее история всё еще исчислялась тысячелетиями. Чтобы исчислять ее веками, необходимо было открыть магию железа. Как только начался железный век, примерно за 900 лет до н. э., три разные и по-своему замечательные эпохи быстро сменили друг друга, в общей сложности не более чем за семь столетий: геометрический (или гомеровский, дописьменный) период, классическая эпоха и эллинистическая цивилизация.
От скорости ползущего ледника бронзового века человечество перешло к захватывающим дух разработкам железного века. Но долгое время выплавка железа и обработка стали оставались слишком сложными и слишком дорогими производствами. Даже в начале Промышленной революции первые пароходы изготавливались в основном из дерева, а сталь использовалась только для ключевых компонентов (котел, топка, соединения). В этот момент на сцену выходит еще один великий герой из пантеона моего отца, Генри Бессемер, который изобрел технологию дешевого производства большого количества стали путем продувки воздуха через расплавленный чугун для сжигания примесей. Именно тогда, по словам отца, история начала двигаться с теми скоростями, которые нам привычны сегодня. В сочетании с укрощением электромагнетизма, которым мы обязаны другому герою Викторианской эпохи, Джеймсу Максвеллу, технология Бессемера подарила нам Вторую промышленную революцию – начавшийся с 1870 года период быстрого технологического развития, отличающийся от происходившей ранее в том же столетии Первой промышленной революции с ее появлением фабрик, – эпоху, в которую чудеса и ужасы оказались тесно переплетены друг с другом.
Вспоминая те зимние вечера 1966 года, я понимаю теперь, что отец прочел мне вводный курс «исторического материализма» – метода понимания истории как механизма постоянной обратной связи между тем, как люди преобразуют материю, и тем, как человеческое мышление и социальные отношения преобразуются в ответ на это воздействие. К счастью, исторический материализм отца не был догматическим, его энтузиазм по отношению к технологиям смягчался разумными дозами беспокойства о бесконечной способности человечества всё портить, превращая чудесные технологии в сущий ад.
Железо, как и все революционные технологии, ускорило историю. Но в каком направлении? Для чего? Как это повлияло на нас? С самого начала железного века, объяснял отец, существовали люди, которые предвидели трагические последствия этого ускорения. Гесиод сочинял свои поэмы примерно в то же время, что и Гомер. Его «Труды и дни» оказали благотворное охлаждающее влияние на энтузиазм папы по поводу железа – и технологий в целом:
Если бы мог я не жить с поколением Пятого века
[Железного века]!
Раньше его умереть я хотел бы иль позже родиться.
Землю теперь населяют железные люди. Не будет
Им передышки ни ночью, ни днем от труда и от горя,
И от несчастий.
<…>
Дети – с отцами, с детьми – их отцы сговориться не смогут.
Чуждыми станут товарищ товарищу, гостю – хозяин,
Больше не будет меж братьев любви, как бывало когда-то.
Старых родителей скоро совсем почитать перестанут;
<…>
И не возбудит ни в ком уваженья ни клятвохранитель,
Ни справедливый, ни добрый. Скорей наглецу и злодею
Станет почет воздаваться. Где сила, там будет и право.
Стыд пропадет. Человеку хорошему люди худые
Лживыми станут вредить показаньями, ложно кляняся.
<…>
К вечным богам вознесутся тогда, отлетевши от смертных,
Совесть и Стыд. Лишь одни жесточайшие, тяжкие беды
Людям останутся в жизни. От зла избавленья не будет[4].
Согласно Гесиоду, железо сделало твердыми не только наши плуги, но и наши души. Под его влиянием наш дух прошел перековку в огне, а пыл наших вновь возникающих желаний охлаждается, как шипящее железо в калильной бадье кузнеца. Добродетели испытываются на прочность, а ценности уничтожаются, по мере того как растет наше богатство и расширяются наши владения. Сила породила не только новые радости, но и измождение с несправедливостью. У Зевса не будет выбора, предсказал Гесиод, кроме как однажды уничтожить человечество, неспособное сдержать свою технологически созданную силу, вышедшую из-под контроля.
Мой отец не хотел соглашаться с Гесиодом. Он хотел верить, что мы, люди, можем стать хозяевами наших технологий, а не порабощать ими себя и друг друга. Когда Прометей украл у Зевса огонь, символизирующий раскаленный добела жар технологий, он сделал это ради человечества, в надежде, что он сможет осветить нашу жизнь, не сжигая Землю. Мой отец хотел верить, что мы сможем использовать его дар так, чтобы Прометей мог гордиться нами.
От жара к свету. Врожденный оптимизм был лишь одной из причин, по которой папа продолжал надеяться, что человечество не растратит магические силы, с которыми он познакомил меня перед нашим камином. Другой причиной было его знакомство с природой света.
Однажды, когда я вынимал раскаленный железный прут из огня, папа спросил: «Как ты думаешь, что заставляет это изображение раскаленного металла попасть в твой глаз, чтобы ты мог увидеть его красное свечение?» Я не смог ответить. К счастью, я был не одинок.
В течение столетий, сказал он, вопрос о природе света был предметом жаркого спора величайших умов. Одни, например Аристотель и Джеймс Максвелл, считали свет своего рода возмущением эфира, волной, которая распространяется от первоначального источника – так же, как это делает звук. Другие, среди которых Демокрит и Исаак Ньютон, указывали, что, в отличие от звука, свет не может огибать препятствия – то, что присуще природе волны, – и, таким образом, он должен состоять из крошечных материальных элементов или частиц, движущихся по прямой линии, прежде чем попасть на сетчатку нашего глаза. Кто из них был прав?
Жизнь моего отца изменилась, или, по крайней мере, так он мне сказал, когда он прочитал ответ на этот вопрос, данный Альбертом Эйнштейном: правы были и те и другие! Свет – это одновременно и поток частиц, и
О проекте
О подписке