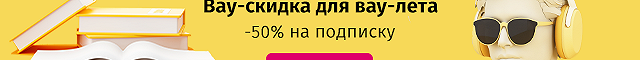
Другие темы
В другой раз цитировали выразительные цитаты из классиков. Тут я тоже немного поучаствовал. Уже перестал стесняться тем, что я вроде как не по чину живу тут, ещё не член союза. Но Сергей и Веня почти насильно втащили меня в круг общения. «Чего тебе стесняться: пишешь, в издательстве работаешь».
После своеобразного состязания в знаниях текстов одобрили фразы: из Набокова, из «Приглашения на казнь»: «Маятник отрубал головы секундам», из Булгакова, из «Дней Турбиных», там выпивший Лариосик любуется в застолье офицером: «Как это вы так ловко рюмку опрокидываете?» Тот отвечает: «Достигается упражнением». Я вступил в беседу, сказав, что слышал, как Астафьев, знающий наизусть «Конька-горбунка», очень восхищается строчкой «как, к числу других затей, спас он тридцать кораблей». «К числу других затей» – здорово? Все одобрили. Осмелев, я ещё и Солоухина вспомнил. Он очень высоко ставил «Мастера и Маргариту», место, где бесенята Коровьев и Бегемот даром раздают женщинам модную одежду и обувь. «Вот одна примеряет туфли и спрашивает: – «А они не будут жать?» – «Даром достались, ещё и жать!»
– О, а у Чехова, помните, пишущая баба пришла, её ещё Раневская сыграла. Она читает писателю свою пьесу, там вот эта ремарка меня восхищает: «В глубине сцены поселяне и поселянки носят пожитки в кабак». А?
– А вне конкуренции знаете какие изречения? – спрашивал высокий седой мужчина. Теперь я уже знал, что он Пётр Николаевич. Но из-за тельняшки, которая была надета под рубашку, я стал про себя звать его мореманом. – Самые крепкие изречения – это народные. Пословицы, поговорки. Даже и частушки. Вот это народная или нашим братом сочинённая: «Подрастает год от году сила молодецкая. По всему земному шару будет власть советская»?
Решили, что всё-таки сочинённая. Про советскую власть в мировом масштабе большевики бредили, а после революции поостыли. Мореман продолжил:
– Но вот эта точно народная: «Спасибо партии родной за любовь и ласку: отобрали выходной, оскорбили Пасху». Не оскорбили, в подлиннике крепче.
– Да, в народе вспыхивает реакция мгновенная на события. В пятьдесят третьем летом шли с сенокоса, встретился мужчина, говорит: Берию арестовали. Как, что? Не верится. А он говорит: уже вовсю частушка пошла: «Что наделал Берия, вышел из доверия. А товарищ Маленков надавал ему пинков».
– Ну да, хлёстко. А вот эта почище: на смерть Ворошилова. Полководец дутый, около Сталина и Будённого тёрся, ворошиловский стрелок. Указы расстрельные подписывал на многие тысячи по спискам. Печатают о нём некролог, в народе тут же: «Умер Клим, да и хрен с ним».
– О народе вспомнили, – ехидно вставил кто-то. – Вышли мы все из народа, как нам вернуться в него?
– Именно так. Но мы-то имеем все шансы вернуться, а в начальстве кто? Не кагал, не клан, а шобла.
– Ну-ну, потише. Пить надо меньше.
– Друзья-товарищи, а что мы Александра Сергеевича, не Пушкина, но тоже великого, Грибоедова, не цитируем? «Петрушка, вечно ты с обновкой, с разорванным локтём». Видно всё сразу. Потом и сама Лиза: «Лишь я одна любви до смерти трушу. А как не полюбить буфетчика Петрушу?» Именно этого. А Лизу Молчалин лапал. Но ей Петруша милее. «Хоть Ивана вы хитрее, но Иван-то вас честнее». Опять Конёк-горбунок вывозит.
За время срока, конечно, невольно многих запомнил: Серёга, критик Веня, другой критик, Петя-пародист, Яша-драмодел, писатель этот мореман, Пётр Николаевич. Ещё автор уголовных историй Елизар. Да Сашок, сантехник.
– А у Шмелёва, – напористо завоевывал внимание Веня, – как это можно его не издавать? Возвращаю к теме цитат из классиков. У него Сидор на водокачке говорит лошади: «Вот так ты походишь, походишь по кругу, а вся тебе награда: пойдёшь на живодёрку. Такая тебе планида судьбы». Планида судьбы. Умели классики.
– Да и мы умеем! – опять выставлялся коротенький лысый пародист Петя. За ним, кстати, бегали поэты, прося написать на них пародию. Этим тоже достигалась известность. Ещё был в фаворе длинный пародист Иванов, но его в этом заезде не было. Знакомством с ним – вот времена и нравы – хвалились. А коротенький, в отсутствии конкурента, выставлялся в мужском клубе новыми своими пародиями. На писателей, но, конечно, отсутствующих. Одну я запомнил: «Старый прозаик, по имени Петя, книгами сыпал, в классики метя. Музу ему подложили в кровать. Незачем больше Пете писать». Но это не о тебе, Петя, адресовался он к писателю, тут же стоящему. Это тот, – он показывал пальцем вверх, намекая на свою смелость И доказывал её: – Друзья мои, ведь дело наше – швах: долдоним только о деньгах да тиражах.
Прав Петя: и тиражи обсуждали: одинарный или массовый. Первой книге обычно давали тираж тридцать тысяч. За авторский лист сто пятьдесят рублей Полуторный тираж – пятьдесят тысяч, здесь авторский лист (двадцать четыре машинописных страницы) триста рублей; массовый, с двойной оплатой, начинался со ста тысяч, то есть шестьсот рублей за лист. Считайте сами: если книга листов двадцать, самое малое, то при массовом тираже автор получает двенадцать тысяч. Если учесть, что машина «Волга» стоила восемь, то жить писателям было очень даже можно.
В клубе были популярны пародии Михаила Дудина, например, о Мариетте Шагинян: «Железная старуха – Маргоша Шагинян, искусственное ухо рабочих и крестьян».
Запомнилась ещё шутка: «Мы на переподготовке были после второго курса. Там майор был, вояка, гонял нас. Выстроит, кричит: «Кто из вас за родину воевать будет? Пушкин? Убит! Лермонтов? Убит! Я? Отвоевался».
Ещё внезапно вспыхивал всегдашний спор новаторов и консерваторов.
– Прогресс двигают консерваторы!
– С чего ты вдруг?
– Да потому что достали эти выдрючивания, завихрения, всё же было сто раз: дыр-был-щур, вся эта экзерсистика-маньеристика-верлибристика.
– Чего ты? Если им интересно, пусть.
– Но зачем? Будто солнце иначе встаёт или деревья вверх корнями растут. От Сотворения мира всё по-прежнему.
– Повыщёлкиваются, повыкобениваются и перестанут.
– Кто и засидится. И жизнь у дураков зря пройдёт.
Но вообще при всей разноголосице мужской клуб встряхивал, думать заставлял, даже смелеть. Хотя я всегда, это от мамы и отца, считал, что надо говорить правду. Какая же смелость, если ты говоришь правду? Это нормально.
Не критик Веня, а другой критик, а как другого зовут, не помню, неважно, вдруг завладевал вниманием:
– Ремесленники, рабы тщеславия! Слушайте сюда. Литература гибнет – это аксиома, не требующая доказательств. Как её спасти? Я коротко, конспективно, тезисно. По примеру христианской идеологии: человеку мешают три эс: Сребролюбие, Славолюбие, Сластолюбие, а писателям мешают три ПРЕ. Их надо убрать из писательской жизни, эти три ПРЕ. Что такое ПРЕ? ПРЕпятстивия. Вот они: ликвидировать ПРЕдисловия, ПРЕзентации, ПРЕмии. Всё! Литература спасена! Предисловие оставить в виде авторского кредо к первой книге, с чем писатель входит в мир словесности, его взгляды на жизнь, его саморекомендация, а презентация – вообще позорное слово, есть же русское – смотрины. Что презентовать, если ещё не прочитано? Пьянка одна. Вонзание штопора в упругость пробки? Премии – вообще гибель. Кому дали, кому не дали, всегда дали не тому. То лизоблюд, то хам, то угодил в тему. Но помощь писателям нужна, особенно старикам и молодым. Не премия – подачка, а помощь! Нужны писатели – стипендиаты заводов, колхозов, фабрик.
– Ну, ты хватанул! Романтики пера эт сетера, очнуться вам давно пора, – поддел пародист Петя. – У нас, подумай головой, кто в нашем деле рулевой?
Но не вышло у Пети перебить критика.
– Именно рулевой, спасибо, подсуфлёрил. Евгений Носов – вот прозаик! Из Курска. И всё был неизвестен. А напечатала у него «Комсомолка» очерк «Жили у бабуси два весёлых гуся», и случайно прочёл лично наш дорогой Леонид Ильич, и похвалил – Боже мой, что началось! Как кинулись шестёрки журналюги, да и наш цех, литкритиков, прямо скажу, не отставал, целый хор раздался голосов с подголосками: велик и недосягаем курский соловей Евгений Носов! Не прозу его хвалили – очерк! Вдумайтесь в моральный облик тех, кто делает погоду на литрынке.
– У них морали нет! Тем более облика.
– Но что же мы скажем в ответ: таких среди нас здесь нет. – Это, конечно, Петя-пародист. Он знал, что запоминают не первых, не средних, а последних.
Крым не наш
Также проблема Крыма умы задевала. Совсем недавно Крым стал частью Украины. Громогласный мореман очень возмущался. Он говорил:
– С чего вдруг Никита раздобрился? Лёня бы не отдал. Где вы тут радяньску мову слышите? Или суржик, или русский язык. А везде надписи по-украински. Какая зупинка? Чем плохо остановка? И эти женочи та человечи, чохи та панчохи. Одежда – одяг.
– Да им хоть как, лишь бы не по-москальски.
– Это не сейчас началось. Ещё при Алексее Михайловиче такая присказенька была: «Мамо, мамо, бис у хату лизе. – Нехай, дочка. Абы не москаль». То есть пусть хоть нечистая сила, лишь бы не москаль.
Тут и я отметился:
– Служил с украинцами. Парни службистые. Ещё на первом году надо мной посмеялись: «Эх ты, москаль, не можешь слово паляныця сказать!» А я думаю: надо же – всё вятский был, а тут уже москаль, в звании повысили.
– Вообще у них жена – жинка – это неплохо, – одобрял непременный участник клуба Сергей. – Нежненько. А муж вообще: чоловик! А жена у них официально, знаете как? Это прямо крепость для мужа: жена у них – дружина.
– А у нас дубина, – сердито говорил романист детективного жанра Елизар. – Вот моя: делать ей совершенно нечего, как только за мной следить.
Все ему сочувствовали.
Скоро я понял, почему Сергей стал одобрять украинский язык. У него в эти дни происходили два текущих события: одно невесёлое – драматург Яша его общёлкивал на биллиарде, денежки вытягивал. А Сергей из самолюбия не хотел сдаваться. Но второе его воодушевляло: приехала сравнительно молодая поэтесса из Москвы. Очень сравнительно. Но москвичка. Бывшая киевлянка. Серёга за ней приударил. Докладывал:
– С квартирой. Дача. Муж в годах.
– Но ты-то тут при чём?
– Разведу. Я чувствую, у неё с ним нелады. Она неглубоко замужем. Какой-то, чувствую, чинуша. Ей понимающий нужен. А это я умею. Он, видимо, дуб-дубарём, она-то вполне. Она, предполагаю, полквартиры отсудит, нам на первое время хватит. Я её третий день окучиваю. Уже на бульваре посидели, она даже мне и спела «Мисяц нызенько, вечир близэнько».
– Надейся, надейся, твоё сердэнько? – не удержался я поддеть. – Чоловиком станешь.
– Не надеюсь, а твёрдо уверен, – отвечал Сергей. – Хохлушки – это не хохлы. Те упёртые как быки, а хохлушки – это, это… Это вообще что-то такое нечто. Я тебя познакомлю. Она яркая шатенка.
– Рыжая?
– Но не крашеная. Такая и есть. И вот ещё что, только тебе: тебе нравится Ялта?
– Да уж больно она залитературена да закиношена. А так, конечно. Море.
– Море, да. Так вот. Ганна, она сейчас уже Жанна, от Ялты без ума. У неё и с мужем нестроение в этом. Она о доме в Ялте мечтает, а он ни в какую. А я за эту ниточку уцепился. Но тут деньга нужна серьёзная. Не прежнее время. Чехов пишет жене: «Дорогая, боялся, что не на что ехать к морю, но Суворин взял два рассказа, и лето обеспечено». На наши гонорары с рассказа хватит только на раз с парнями посидеть. Да и то не ресторан, а пивная. Да, о Чехове: живёт он в Ялте, ему нравится. Дышит. У него же лёгкие неважные. Но неохота на съёмной жить. Пишет жене: давай свой дом купим. На следующий день в том же письме строчка: купил. В том же письме к вечеру: после обеда я подумал, что купленный дом далековато от моря и купил ещё один, поближе. А дальше, слушай, дальше следующий день. В том же письме: дорогая, я окончательно решил, что дом надо строить свой. Поэтому сегодня я купил участок земли. Всё это я у Залыгина прочитал, он хорошо о Чехове написал. Где нам такие гонорары взять?
– Премию дадут.
– Дадут. Догонят, да ещё поддадут. Премии, дружок, без нас делят.
Громкая читка близится
Дежурная в корпусе сказала, что меня искали.
– Владимир Фёдорович?
– Нет, от Ионы Марковича.
И в самом деле, вскоре постучался молодой человек, очень приличный, вида референта при большом начальнике. Даже в костюме, даже при галстуке. Представился секретарём Ивана Ивановича.
– Вы знаете, что вы приглашены к нему?
– Да, он звал.
– Встречу переносили по независящим от него причинам.
– Да, в винные подвалы ходили.
– Встреча, он просил напомнить, будет завтра. В семнадцать ноль-ноль. Ужин будет в номере Ионы Марковича.
Ещё меня навестил Сашок. Он пришёл с бутылкой. Он ко мне и без меня заходил, я номер не закрывал. Часто его сумка с инструментами ночевала у меня. Он пришёл, спросил разрешения присесть. Тем более я и не за столом сидел, а лежал на диване.
– Плесни и мне, – неожиданно даже для себя сказал я. – Три капли. Тши кропли, как гуторят паны поляки.
– Ого! – обрадовался Сашок. – Броня крепка, и танки наши быстры!
Я переместился к столу, взял стакан:
– И наши люди мужеством полны. Саш, скажи честно, только не привирай: ты тогда про Соню выдумал?
– Что именно?
– Что она такая вся из себя: в ресторане с кем-то сидит, и так далее? Только не врать! А то очную ставку устрою.
Сашок смущённо хмыкнул, покрутил стакан, раскрутил водку в стакане и заглотил её. Объяснил:
– Так она легче идёт. Эх! Один татарин в два шеренга становись!
– Ты про Соню, про Соню. Закуси.
– Хорошо, признаюсь. Конечно, не такая. Это я тебе как мужик мужику говорю, не такая. Я же тебе уже и говорил: она на все сто. Ни в какие рестораны не ходит. Честно скажу: вначале хотел с ней время провести, думал, всё получится. Здоровается, улыбается. А я тут в этом доме на бабьё нагляделся. А-а. Думаю, значит, и мне можно. Пошутил два-три раза. То, сё. Выбрал момент, кран у них на кухне менял. Она там. Тонко намекаю ей на толстые обстоятельства. Приобнял так игриво. А она: я тебе сейчас по морде надаю. Да так сказала, я понял: надаёт. Да так взглянула! Ну, брат. И вся любовь. Мне, конечно, обидно стало: за мужика не считает. Вот с обиды тебе и сказал. Ерунду наговорил, никуда она не ходит. А ты чего сидишь, как красная девица, подымай. За тех, кто в горе. – Он, так и не закусив, снова взял бутылку за горло. – А честно сказать, она и права. Мы ведь как о них думаем? Такие и сякие, думаем. Чего не пьёшь? Жена у меня никакая, любви у нас не было. Откуда взяться: по пьянке женили. В постель как на каторгу шёл. Так мне и надо. А ты чего спрашиваешь, на Соню запал? Понравилась? Займись.
– У меня жена со мной венчанная. Работать приехал. А работа не идёт.
– Пойдёт, – уверил Сашок. – Сегодня в подвале сочленение в системе отопления менял. Вмёртвую всё заржавело, слезится, подтекает. Надо было шесть огроменных гаек, им лет по пятьдесят, метрическая резьба, свинтить. Думал, не смогу. Полдня карячился. Свинтил. И ты свинтишь.
Он налил было ещё, но, подумав, слил водку обратно.
– Соня. За такую Соню я и помереть был бы рад. Мгновенно бы от всех других отскочил, только бы с ней!
– Ну и объяснись. Скажи: прости, по дурости руки протянул. Да, с ней и речи нет о лёгких отношениях. Только семья!
– По-оздно, – протянул Сашок. – Да и слава обо мне не первого сорта. Иной раз притворюсь, что что-то на кухне или в зале надо, зайду, чтоб только на неё взглянуть. Стыдно же! Она ничего, здоровается. Но как со всеми. Как со всеми, понял?
– Понял. А тебе надо, чтоб именно с тобой?
– Именно!
Что я ему мог посоветовать? Тут к нам забрёл критик Веня. Он тоже со мной особо не церемонился, заходил и раньше. Опекал меня. Взял, то есть, шефство. Учил жить. Говорил обычно: «Старичок, врубись! Идёт борьба! Становись в строй! Нужны активные штыки!» Я протянул ему свой стакан. Он не чинился.
– Завтра к Ионе Марковичу? К небожителям? Я тоже.
– Но ты-то ему нужен: воспоёшь его шедевр. А меня он из-за Тендрякова позвал. Рядом стояли. Мне и идти-то неохота.
– Ну как же, даже из спортивного интереса: такой ареопаг собирается. Секретари СП СССР, сплошь лауреатство. Олимп! Повелители умов!
– Мы идём слушать новое произведение, – объяснил я Саше.
– А которому жена пить не даёт, пойдёт? – спросил Сашок. – Про милицию пишет.
– А, – понял Веня, – уверен, что зван. Знаменитость. У него и фильмы, и однотомники. Это же элементарная литература, детективщина, чтиво. Он на Петровке свой человек. Его снабжают делами из архива. Выбирает, что поинтереснее, и переводит в роман. Фамилии меняет. А как не даёт пить?
– Да он здесь каждую осень, это у нас все знают, – объяснил Сашок. – Если не напишет, пить не получит. Она его запирает и уходит. Он потом отчитывается. Она выдаёт бутылку. Он вроде того, что Ерофей Иванович или Елизар какой. Можно у дежурной посмотреть.
О проекте
О подписке