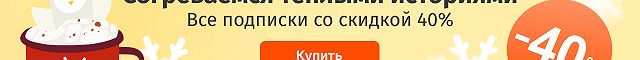
Глава 3
Библиотека пахла старым деревом, пылью и тишиной. Я пришел сюда не за книгами. Я пришел, потому что знал – она здесь. Ее машина стояла во дворе. Она засиживалась после пар, готовила материалы. Я видел свет в ее кабинете, но пошел не туда. В библиотеку. Ждать.
Она вошла беззвучно, но я почувствовал это – воздух снова стал чище, острее. Она несла папку с бумагами, прижимая ее к груди, как щит. Увидела меня – и чуть помедлила в дверях. Ее пальцы сжали папку.
– Виктор. Библиотека для занятий, не для того, чтобы кого-то караулить.
– Я занимаюсь, – я откинулся на спинку стула, положив ноги на соседний. – Реферат по Джотто. Вы же сами задали.
Она прошла мимо, к библиотекарше, чтобы сдать книги. Ее юбка – серая, строгая – облегала бедра, подчеркивая каждый шаг. Я смотрел, не скрывая этого. Пусть видит. Пусть чувствует тяжесть этого взгляда на своей коже.
Она закончила у стойки и направилась к выходу. Я встал и перегородил ей путь между стеллажами. В темном углу, куда не падал свет от главных ламп.
– Экскурсию по разделам искусствоведения проводить не буду, – сказала она сухо, пытаясь обойти меня слева. Я сделал шаг, блокируя путь. – Виктор. Отойдите.
– Я запутался в источниках, – сказал я, глядя на ее губы. Они были сегодня без помады, казались мягче, уязвимее. – Нужен совет. Вы же педагог.
– Мое педагогическое время истекло. Завтра. В рабочее время.
– Не могу ждать до завтра. Все мысли путаются.
Она попыталась обойти справа. Я снова встал на ее пути. Теперь мы были в тупике между полками с архитектурными альбомами. Тесно. Ее дыхание стало сильнее.
– Последний раз говорю. Пропустите меня.
– Объясните мне одну вещь, – я наклонился чуть ближе. Она отпрянула спиной к стеллажу, книги задребезжали. – Про «Троицу» того самого Рублева. Там три ангела. А какой из них – Бог-Отец? Говорят, искусствоведы до сих пор спорят.
Это был дурацкий, натянутый вопрос. Но он заставил ее задуматься на секунду. Сработал преподавательский инстинкт.
– Это символическое изображение… – начала она, но я перебил.
– Мне не нужно то, что в учебниках. Мне нужно ваше мнение. Личное. Какой ангел, по-вашему, главный? Тот, что посередине? Или тот, что слева?
Она смотрела на меня, и я видел, как в ее глазах борются два чувства: раздражение и непроизвольный интерес к вопросу.
– Тот, что в центре, – наконец сказала она, и в голосе прорвалась усталость. – Но суть не в иерархии. Суть – в единстве. В нерушимой связи. Их нельзя разделить.
– Как нас с вами? – вырвалось у меня.
Она замерла. Потом резко качнула головой.
– Это уже даже не смешно. Это патология. Дайте пройти.
– Я не могу, – честно сказал я, и голос мой сорвался. Вся накопившаяся за день ярость, ревность и желание вырвались наружу. – Не могу, когда вы проходите по коридору и смеетесь с тем идиотом-завучем. Не могу, когда вы смотрите в окно, а не на меня. Это сводит меня с ума. Вы свели.
Она не ожидала такой прямой атаки. Ее броня дала трещину. В глазах мелькнуло что-то похожее на испуг. Настоящий испуг.
– Вы не в себе… Вам нужна помощь.
– Мне нужны ВЫ. Только ВЫ. И я добьюсь своего.
Она попыталась резко проскользнуть под моей рукой, которую я упер в стеллаж. Ее плечо ткнулось мне в грудь. Тепло, упругость, шок от касания. Она вскрикнула, отшатнулась и уронила папку с бумагами. Листы рассыпались по полу.
Мы оба застыли, глядя на этот беспорядок. Потом я медленно, не спуская с нее глаз, опустился на корточки и начал собирать листы. Она не двигалась, стоя над моей согнутой спиной. Я чувствовал ее взгляд на затылке. Жгучий.
Среди бумаг лежал ее карандаш – простой, деревянный, с острым концом и крошечными следами зубов на нем. Она грызла карандаши. Эта маленькая, человеческая слабость ударила меня с невероятной силой. Я поднял его.
– Мой, – сказала она тихо, протягивая руку.
– Я знаю, – я встал, держа карандаш в пальцах. Потом медленно, не отрывая глаз от нее, поднес его к своим губам и провел тупым концом по нижней губе. Следую ее привычке. Нарушая еще одну границу. – Теперь и мой.
Она побледнела. Рука, протянутая за карандашом, опустилась.
– Вы закончили? – ее голос был беззвучным шепотом.
– Нет, – я положил карандаш в нагрудный карман своей рубашки, прямо у сердца. – Это только начало. Реферат я принесу. И он будет идеальным. А потом вы поставите мне пятерку. И посмотрите на меня. Только на меня.
Я наклонился, подобрал последний лист и протянул ей всю стопку. Наши пальцы не соприкоснулись. Она взяла бумаги так, будто они были из раскаленного металла.
– Вы не получите пятерку, – сказала она, и в ее голосе вернулась сталь. Но это была уже другая сталь. Не холодная и отстраненная, а раскаленная докрасна. – Вы получите то, что заслуживаете. По заслугам.
Она вышла из-за стеллажа и быстро пошла к выходу, не оглядываясь. Но ее шаги были сбивчивыми. А я стоял и трогал пальцами карандаш в кармане, чувствуя, как дикое ликование смешивается с яростью.
Она сказала «по заслугам». И я понял – она уже не отрицает, что между нами есть какая-то история. Она готова ее вести. На своих условиях. Своими методами.
Что ж. Я всегда был отличным учеником. Особенно когда предмет меня действительно увлекал.
Глава 4
Я писал реферат три ночи. Не из-за Джотто. Из-за нее. Каждое слово было кирпичиком в стене, которую я возводил между ней и ее равнодушием. Я вгрызался в искусствоведческие статьи, как в бетон, выискивая самые острые, небанальные формулировки. Это должен был быть не доклад, а манифест. Ее манифест, который она не осмелилась бы написать сама.
Я вошел в ее кабинет в пятницу, ровно за минуту до окончания ее консультаций. Она сидела за столом, проверяя работы, и не сразу подняла глаза. На ней были очки в тонкой металлической оправе. Они делали ее похожей на ученого эпохи Просвещения – хрупкого и безжалостного.
– Я закончил, – сказал я, положив папку с распечатанным рефератом на край стола. Толщиной в добрых тридцать страниц.
Она наконец взглянула на меня поверх очков, потом на папку. Ни один мускул не дрогнул на ее лице.
– Положите в общую стопку, – она кивнула на груду бумаг в углу стола.
– Нет. Я хочу, чтобы вы прочитали это сейчас.
– У меня нет на это времени.
– Отмените следующую встречу.
Она сняла очки, медленно сложила дужки. Этот жест был полон скрытой силы.
– Вы сейчас указываете мне, как распоряжаться моим рабочим временем?
– Я прошу. Как ученик, который вложил душу в работу. Разве вы не поощряете усердие?
Она посмотрела на папку, потом снова на меня. В ее взгляде читалась борьба. Любопытство против принципа. Любопытство победило. Она вздохнула, отодвинула текущие бумаги и потянула к себе мой реферат.
– Десять минут. Сидите. Молчите.
Я сел на стул для посетителей, но не напротив, а сбоку от стола, чтобы видеть ее профиль. Она начала читать. Сначала бегло, с легкой скептической гримасой. Потом медленнее. Один раз она остановилась, перечитала абзац. Ее бровь чуть приподнялась. Она взяла карандаш – не тот, что я украл, а новый – и что-то едва заметно подчеркнула на полях. Мое сердце упало. Критика? Но потом уголок ее рта дрогнул. Почти неуловимо. Она что-то записала на отдельном листочке. Быстро, сжато.
Прошло не десять, а все двадцать минут. Она дочитала последнюю страницу, закрыла папку и отложила ее в сторону. Потом подняла на меня глаза. В них не было восторга. Была сложная смесь уважения, досады и… осторожности.
– Это хорошая работа, Виктор. Глубокая. С неожиданными параллелями. Вы провели серьезное исследование.
– Это «пять»? – спросил я прямо, чувствуя, как сжимаются мышцы живота.
Она откинулась на спинку кресла, сложив руки. Поза судьи.
– Нет. Это «четыре».
– Почему? – голос сорвался, выдавая мое возмущение. – Вы же сами сказали – глубокая, серьезная…
– Потому что это не реферат по Джотто. Это эссе о тотальной власти взгляда в раннем Возрождении. Вы подменили тему. Блестяще, но подменили. Вы писали не о технике, а о подтексте. О том, что нельзя трогать. Это нарушение формальных критериев.
Я вскочил. Меня затрясло от несправедливости.
– Вы дали тему! «Джотто: новаторство и влияние». Я показал новаторство! Он первым осмелился смотреть! По-настоящему смотреть! Трогать взглядом!
– «Трогать взглядом» – это ваша субъективная интерпретация, не более! – она тоже повысила голос, вставая из-за стола. Мы стояли теперь друг против друга, разделенные лишь шириной столешницы. – Вы вложили в работу то, что волнует лично вас! Вашу одержимость! Это не объективный анализ, это… это крик!
– И что в этом плохого?! – я ударил кулаком по столу. Папка подпрыгнула. – Разве искусство не про это? Про крик? Про одержимость? Или вы хотите, чтобы я, как все, тупо пересказал учебник?!
– Я хочу, чтобы вы научились контролю! – выпалила она, и ее щеки запылали. – Чтобы отделяли личное от профессионального! Чтобы понимали границы!
– Какие границы?! – я наклонился к ней через стол. Наши лица были теперь в сантиметрах друг от друга. Я видел золотистые крапинки в ее радужках, мельчайшую сеточку капилляров у крыльев носа. Чувствовал ее прерывистое, горячее дыхание. – Границы между тем, что я чувствую, и тем, что пишу? Их нет! И вы это знаете! Вы прочитали и поняли! Поняли, что это про вас! Про нас!
Она отпрянула, будто от удара. Ее рука потянулась к телефону на столе.
– Если вы сейчас не успокоитесь и не покинете кабинет, я вызову охрану. И директора.
– Вызовите, – я выпрямился, и внезапная ледяная ярость заструилась по жилам, сменив горячий гнев. – Расскажите им. Что ученик написал блестящую работу. Что учительница ставит четверку, потому что работа ей слишком… близка. Потому что она боится той правды, которую там увидела.
Ее рука замерла над телефонной трубкой. Она смотрела на меня широко раскрытыми глазами. В них было паническое, животное понимание. Я попал в цель.
– Убирайтесь, – прошептала она. – Убирайтесь сейчас же.
– Поставьте пять.
– Нет.
– Поставьте. И я уйду. И… я оставлю вас в покое. На неделю. – я сказал это, сам не веря, что способен сдержать такое обещание.
Она засмеялась. Коротко, истерично.
– Шантаж? Серьезно?
– Торг, – поправил я. – Вы цените сделки, я помню. Ваши драгоценные границы. Оценка – в обмен на временное перемирие.
Она молчала, глядя на меня. Грудь тяжело вздымалась. Она оценивала риски. Ее репутацию. Скандал. Мое непредсказуемое поведение. И мою работу, которая, черт побери, действительно была на пятерку.
– Хорошо, – выдохнула она наконец. – «Пять». Но…
– Но? – я насторожился.
– Но вы принесете еще один реферат. По формальной, скучной, утвержденной Министерством теме. Без души. Без крика. Чистая техника. Чтобы доказать, что можете и так. И принесете его ровно через неделю. И тогда… – она сделала паузу, выбирая слова. – Тогда мы продолжим этот разговор. На академической почве.
Это был не отказ. Это было… продолжение. На ее условиях. Но продолжение.
Я медленно кивнул.
– Договорились.
Я развернулся и пошел к двери. Уже в дверях обернулся.
– Анна Сергеевна.
– Что? – она не смотрела на меня, снова надевая очки, но я видел, как дрожит ее рука.
– Карандаш… он все еще со мной. И он все еще пахнет вами.
Я вышел, закрыв дверь без звука. Оставшись в коридоре, я прислонился к стене и закрыл глаза, пытаясь заглушить бешеный стук сердца. Она пошла на сделку. Она в игре. И этот новый реферат… этот скучный, формальный реферат… он станет моим самым дерзким произведением. Потому что я вложу в него все, что чувствую, и спрячу так, что увидит только она.
Война продолжалась. Но правила только что изменились.
О проекте
О подписке
Другие проекты