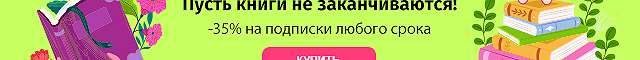
II
После Сашиной смерти в ходе томительно длинного следствия по его делу, которое вел капитан Басов, я часто вспоминала тех людей, с которыми он близко сошелся в последнее время, и ловила себя на мысли, что каждого из них, в той или иной степени, начинаю подозревать. Нет, я не обладаю какими-то исключительными психологическими способностями, не ощущаю в себе ни провидческого, ни пророческого дара, просто я люблю вязать, у меня хорошая зрительная память. А жизненный узор мне всегда казался самым интересным. Я всегда старалась понять и распутать его.
Естественно, в первую очередь я вспомнила о супругах Барсовых. Однажды я видела, как муж этой начинающей бизнес-леди, тяжеловесный верзила с волосатыми ручищами, держал моего брата за грудки и что-то громко ему объяснял со свирепым видом. Потом отшвырнул от машины, возле которой произошла ссора, сел в неё и уехал. А брат ещё долго стоял возле своего магазина с огромной красочной вывеской по засаду «Белояр», и в его фигуре было что-то жалкое. О чем они тогда говорили, для меня навсегда осталось тайной.
Барсовы в прошлом были ничем не примечательные люди. Он инженер, она бухгалтер. И вдруг, неожиданно для всех, года три назад на местном аукционе, устроенном как всегда в здании городской администрации, они приобрели за 30 миллионов рублей здание нового «Дома быта». У многих в городе тут же возник вопрос, откуда у Барсовых такие огромные деньги? Ни он, ни она коммерцией до этого не занимались, не увлекались разведением пчел, не имели даже приличной машины.
Вскоре Барсовы наладили деловые контакты с какой-то южно-корейской фирмой, набрали крупных кредитов в местном коммерческом банке и стали шить капроновые куртки «на рыбьем меху». Открыли свой магазин, который, по правде говоря, не выделялся обилием товаров, зато располагался близко к центру города и имел по фасаду узорную кладку из красного кирпича в виде елочек. Усилиями оборотистых супругов дом бытовых услуг был переоборудован под швейные цеха, в нем появился шикарный кабинет директора, отделанный изнутри красным деревом и украшений многочисленными зеркалами. Барсовы наняли два десятка рабочих, инженера, бухгалтера, закройщика. И работа, что называется, закипела. Вот только за эту работу первое время они расплачивались в основном авансами, не забывая при этом напомнить, что предприятие у них частное и потому основной расчет будет в конце года, когда станет ясно, какую прибыль они получили… Но в конце года неожиданно супруги Барсовы производство закрыли, отправили рабочих в бессрочные отпуска, а сами укатили в Москву искать управу на местную власть, которая будто бы душит их непосильными налогами.
Потом в районной газете появилась небольшая статья, подписанная Марией Барсовой, где она объясняла причину временного закрытия своего предприятия тем, что с рубля, вложенного в производство, ей пока что, приходится платить полтора рубля налоговых отчислений. Так что заниматься производством в данный момент попросту нерентабельно, неразорительно.
По городу пополз слух, что супруги Барсовы задолжали местному банку два миллиарда рублей, что теперь они безвыездно находятся в Москве, а их финансовые дела в Красновятске ведут два московских адвоката, которые уже подали на здешнюю администрацию в суд за чрезмерное завышение ставки налогов и неправильную оценку стоимости основных фондов.
Их магазин на улице Герцена вскоре закрылся, а бывшие рабочие превратились в безработных. Потом в здании бывшего «Дома быта» произошло два подозрительных загорания. В первом случае выгорела часть проводки, а во втором склад готовой продукции превратился в золу, но при этом кирпичное здание сильно не пострадало, хотя и потеряло прежний вид. После этих странных пожаров мой брат каждый раз удрученно качал головой и повторял:
– Это всё очень скверно! Перспективы развития производства в современной России ужасны. Если так и дальше пойдет, то будет катастрофа.
Я старалась уточнить, что он имеет в виду. Но Саша мне ничего не объяснял, говорил, что я сама должна во всем разобраться. Это же так просто – проанализировать затраты и прибыль. Только однажды, когда он получил очередное письмо из Москвы и снова заговорил о Марии Барсовой, я не выдержала и спросила:
– Что тебя с ними связывает?
– Да ничего, – неуверенно ответил он, – сейчас совсем ничего не связывает.
– А раньше?
– Были общие проблемы.
– Какие? – полушуливым тоном поинтересовалась я.
– Ну, ты, надеюсь, понимаешь, – начал он, – что Барсовы – это подставные фигуры. С самого начала они ничем здесь не владели, они выполняли чужую волю.
– Я предполагала.
– Ну вот. У них в Москве есть какой-то влиятельный человек. Их дальний родственник, что ли. Все идет через него: и деньги, и товары.
– Ну и что?
– Так вот этот родственник в Москве, скорее всего, на чем-то прокололся. Ему срочно потребовались деньги.
– И поэтому у Барсовых остановилось производство? – догадалась я.
– Конечно. И налоги здесь ни при чем. Это всё ясно, как божий день.
– Ты узнал об этом и рассказал кому-то? Поэтому Барсов взяли тебя в оборот?
– Нет, – уклончиво начал он, отводя глаза в сторону. – Мы живем в маленьком городке. Здесь каждый бизнесмен связан с другим. Без этого развиваться невозможно. Производство зависит от сбыта, сбыт – от наличия денег у населения. А деньги надо где-то заработать.
– Ну и…
– Как-нибудь в следующий раз, – замялся Саша. – Это неинтересно. Повторять аксиомы, о которых писал ещё Карл Маркс.
Может быть, он не хотел рассказывать о том случае, где явно был неправ. В детстве с ним часто бывало такое. Он скрывал свои ошибки, не умел и не желал чувствовать себя виноватым. Ему обязательно нужно было оправдаться перед старшими или загладить вину, высказать свое возмущение или расплакаться от обиды, ища сочувствия. Единственное, чего в нем не было никогда, так это немого затворничества, которое так свойственно мне в минуты отчаянья. А таких минут сейчас у меня хоть отбавляй, особенно по вечерам, когда я пытаюсь ответить на множество вопросов, которые поставила передо мной современная жизнь.
Второй человек, которого я стала подозревать в причастности к Сашиной смерти – это Мирон Зорин. В последние дни перед гибелью брата, Мирон часто заезжал за Сашей на своей машине. Несколько раз по утрам я видела перед Сашиным домом его «Волгу». И, когда брат с помятым лицом появлялся возле этой машины, то Мирон почему-то не выходил из неё, чтобы поздороваться, как это делал раньше, а только слегка приподнимал руку изображая приветствие. Вообще, он вел себя как-то странно, как будто мой брат сейчас от него зависит.
С Мироном Зориным брат дружил давно. С тех самых пор, как Мирон устроил в Красновятске первый митинг в поддержку будущего президента Ельцина, как раз накануне выборов в девяносто шестом. Тогда они вместе развешивали плакаты на улицах города, выступали в местном Доме культуры с призывными речами, агитировали на площадях. Предвыборная программа Бориса Ельцина казалась моему брату самой простой и самой содержательной одновременно, а сам кандидат представлялся человеком целеустремленным, неуступчивым и решительным. Собрания демократов – реформаторов благодаря усилиям Мирона сделались людными, на них стала появляться молодежь, откуда-то приезжали певцы и музыканты. После каждого такого собрания стали устраиваться богатые фуршеты и танцы. Это понравилось незамужним женщинам. В скором времени ветреных женщин на пропагандистских сборищах социал-демократов стало большинство. Нарядная толпа женщин послужила приманкой для мужчин. В общем, через какое-то время мне показалось, что я должна туда заглянуть хотя бы однажды. Меня заинтересовал Мирон Зорин.
Он был человек, который постоянно о чем-то говорит, что-то кому-то доказывает, объясняет. Он не знает, что такое минута задумчивости. Когда его слушаешь – может показаться, что он прекрасно разбирается в людях, интуитивно чувствует правду, легко находит в шелухе случайностей рациональное зерно. Пожалуй, я бы слукавила, если бы сказала, что этому человеку я полностью доверяю.
Признаюсь честно, форма ведения собраний у социал-демократов мне понравилась. Вернее она не утомляла. На этих собраниях никто не призывал разношерстную публику вести себя потише, никто не требовал внимания к себе, не взывал к совести, не обещал невозможного. Просто каждый выступающий говорил то, что думал, и это было важнее всего. А, самое главное, это было интересно.
Как я уже говорила, после каждого такого собрания активистами социал-демократического движения устраивался небольшой банкет. Всем присутствующим раздавались пластмассовые стаканчика с сухим вином и крохотные бутерброды. С опустошенным на половину стаканом, приятно было постоять среди своих друзей, ведя разговор на какую-нибудь отвлеченную тему, а при желании наполнить его вновь, только уже за свой счет. Многие именно так и делали, причем довольно часто, но пьяных почему-то не было видно. Бросалось в глаза, что обыкновенные люди в культурном обществе старались и вести себя соответственно. Никто не прибегал к русскому «эсперанто», никто не говорил пошлостей, все старались быть учтивыми и предупредительными, что для людей в глубокой провинции весьма нехарактерно.
Много раз в течение вечера ко мне подходил брат и с улыбкой на лице спрашивал: «Ну, как тебе тут? Нравится»? «Нравится», – честно отвечала я.
На одном из таких собраний я познакомилась со своим будущим женихом Генрихом Гуревичем. Чем он меня покорил, сейчас я сказать не могу, но я сразу отметила в нем особого рода достоинство, то достоинство, которого не было у Вадима. К тому же он был прекрасно одет, чисто выбрит, надушен каким-то незнакомым мне, но приятным одеколоном. На нем был светло-серый костюм, отливающий на сгибах синевой, белая рубашка, напоминающая новогодний снег и широкий галстук с расплывчато-зелеными полосками наискосок. Он просто и раскованно держался среди женщин, заинтересованно разговаривал с мужчинами, проявляя свое расположение не улыбкой, а только характерными (после тридцати) морщинками возле глаз, которые эту улыбку как бы подразумевали. Со стороны могло показаться, что он всё время улыбается. На самом же деле он просто чувствовал свободно.
К Генриху меня подвел мой брат. Вернее мы подошли вместе. Саша что-то хотел узнать у него и заодно решил познакомить меня с интересным человеком.
Мать Генриха была из поволжских немцев, и это обстоятельство, конечно, сыграло свою роль. Саше всегда хотелось, чтобы у нас в семье не так резко, как у других наших знакомых проявлялось смешение кровей. До этого я проводила время с Вадимом Соколовым, и брат на наши с Вадимом отношения смотрел без особой симпатии. Вадим был красив, добродушен, мил и покладист, но ему не хватало образованности. Он закончил какой-то лесной техникум в Пищалье, работал в местном лесхозе инженером лесопатологом и считал, что этого вполне достаточно для спокойной жизни в вятской глуши. Он предпочитал довольствоваться малым, лишь бы не суетиться, не беспокоиться, и не быть обузой для других. Иногда мне казалось, что за свою томительно длинную молодость, которую он всегда вспоминал с улыбкой, Вадим не успел прочесть ни одной книги. Он путешествовал, рыбачил, ходил на охоту, попадал в различные, иногда довольно занимательные истории – вот и всё. Даже нынешние свои знания о внешнем мире он черпал, кажется, исключительно из газет и телепередач. В общем, после знакомства с Генрихом, после того, как мне стало ясно, что это не просто очередное увлечение, с Вадимом я решила порвать.
Но как это часто бывает в пору первой любви, размолвка наша затянулась. Я и сейчас не знаю толком, правильно ли я поступила тогда. Не покарает ли меня за это Бог. Ведь бедный Вадим в своих чувствах ко мне был так искренен, так доверчив. Он, по-видимому, надеялся на длительные и серьёзные отношения, строил планы. Когда я попыталась объяснить ему, что неожиданно полюбила другого, он едва не поколотил меня от отчаянья. Он и тут был искренен до конца. И в таком положении всё-таки попытался меня понять, а позднее и простить. Очень просил еще раз подумать, до конца разобраться со своими чувствами и не рубить с плеча.
Это произошло в самом начале лета, мы стояли на лунной ночной улице и плакали. Нам казалось, что мы расстаемся навсегда. Улица, где он жил была какая-то слишком узкая и длинная, кончавшаяся оврагом, а другом своим концом выходила на пустырь перед недостроенным зданием школы, где весной пышно цвели низкорослые сирени. Когда я проходила мимо этих сиреней в конце мая после дождя, и они вдруг неожиданно вспыхивали, освещенные в прореху между туч косыми лучами, меня всегда охватывал какой-то детский восторг. Я зачарованно останавливалась и смотрела то на тёмное небо в бахроме туч, то на золотисто-желтые кусты сирени. Сердце мое начинало радостно биться, мне казалось, что где-то рядом, по всем приметам, могла бы быть помещичья усадьба, наподобие тех, которые любил описывать в своих рассказах Иван Бунин. Там в глубине сада мог бы возвышаться белый каменный дом, до половины увитый цветущим плюшем. В этой усадьбе мог бы жить какой-нибудь отставной капитан с тёмными усами – любитель орловских рысаков.
С цветущими сиренями были связаны мои воспоминания о первых поцелуях с Вадимом, о первых бессвязно-ласковых словах, дополненных несмелыми объятиями.
Но прошло время, и вот я уже решилась выбирать между мечтой и реальностью, между фантазией любви и метафизикой жизни, как сказал бы какой-нибудь средневековый философ – моралист.
Первый вечер с Генрихом был для меня мучительным. И не потому, что мне вдруг стало скучно с ним, нет. Просто я испытала острое желание уединиться. Генрих же упорно не желал меня понимать. Он, в отличие от Вадима, не искал уединения. Наоборот – старался всегда быть на виду. Его ничто не стесняло, никто не интересовал и не привлекал кроме меня. Хорошо, хоть в конце вечера мы немного посидели в небольшом уютном скверике за церковью, где было непривычно тихо и влажно. Где можно было говорить вполголоса, смотреть друг на друга и выразительно молчать.
На следующий день повторилось то же самое, и на третий, и на четвертый. И тут я почувствовала вдруг, что с Генрихом мне не совсем комфортно. Я всё время ожидала от Генриха чего-то особенного – некой разновидности открытия, позволяющей пренебречь приличием. А он оставался таким, как все. Открытия не получалось. Он много говорил, он был порой остроумен, с его языка то и дело срывались сочные метафоры, точные сравнения. Он пытался меня развеселить, и порой ему это удавалось. Но мне всё равно было грустно. Я почувствовала, что начинаю заболевать этой чисто русской болезнью – грустить ни с того ни с сего, потому что уже привыкла к бессмыслице сельской жизни, к простому, а точнее, поверхностному взгляду на сложные для понимания проблемы. Скорее всего, причислить меня к натурам чрезмерно чувствительным было нельзя, я считала себя холодной и рассудительной, без особого восторга воспринимающей чисто философские пассажи. Хотя гедонисткой я в то время не тоже была. Я привыкла стойко сносить все тяготы судьбы и из многих мучительных ситуаций выходила с честью только потому, что умела терпеть, была выносливой как лошадь и этим гордилась. Но слушательница из меня была плохая, неблагодарная.
Так произошло, когда я потеряла брата. Я остро почувствовала это. Я изменилась, причем как-то очень глубоко и непоправимо. Многим женщинам, я думаю, знакомо это чувство – чувство растерянности после беды. Я тоже испытала нечто подобное. Я знала причины этой перемены, но не могла их объяснить.
О проекте
О подписке
Другие проекты