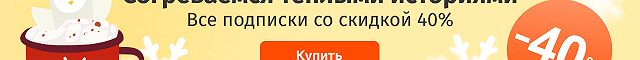
Плотин подчёркивает, что цель его критики ясна: именно ради этого он и упомянул об этих демонических теориях. Остальное он оставляет читателям для самостоятельного изучения и наблюдения, с одним ключевым критерием: вид философии, который исповедует он сам, наряду со всеми прочими благами являет простоту нрава вместе с чистым мышлением, стремится к достоинству, а не наглости, к разумной отваге с большой осмотрительностью, осторожностью и величайшей осмотрительностью. Всё же прочее должно быть сопоставлено с этим образцом. Учение же их, напротив, устроено совершенно противоположным образом во всём. Ибо больше нечего сказать; так следует нам говорить о них.
Этим заключением Плотин не просто критикует конкретные практики, а устанавливает фундаментальный водораздел между подлинной философией, ищущей внутреннего преображения через понимание и этическую практику, и гностическим синкретизмом, замещающим это понимание внешним ритуалом, магией и горделивыми спекуляциями. Истинная мудрость сопряжена со скромностью, осторожностью и чистотой ума, тогда как ложное знание ведёт к самонадеянности и профанации священного. Этот пассаж звучит как вневременное предостережение против подмены духовного роста оккультными техниками и интеллектуальной гордыней.
15. О нравственных последствиях гностического учения.
Завершая трактат, Плотин ставит ключевой вопрос о нравственном и психологическом воздействии гностических доктрин на души слушателей, убеждённых презирать космос и всё в нём сущее. Это воздействие он рассматривает в контексте двух основных жизненных ориентаций (аирэсэис): одна полагает целью телесное удовольствие, другая избирает прекрасное и добродетель, влечение к которым укоренено в Боге и ведёт к Богу. Эпикур, упразднив промысел, призывает преследовать удовольствие и наслаждение как единственное оставшееся. Гностическое же учение, по мнению Плотина, действует ещё более пагубно и дерзко: понося самого Владыку промысла и сам промысел, бесчестя все здешние законы и добродетель, открытую за всё течение времени, а также относя к смеху само воздержание (сопросинэ), оно добивается того, чтобы здесь не усматривалось никакое благо. Тем самым оно упраздняет и воздержание, и врождённую в нравах справедливость, совершенствуемую разумом и упражнением, и вообще всё, благодаря чему человек мог бы стать достойным.
Таким образом, последователям этого учения остаётся лишь удовольствие, забота лишь о себе, отказ от общности с другими людьми и погоня за одной лишь полезностью – если только кто-то своей природой не окажется сильнее этих речей. Ибо в этой системе для них нет ничего прекрасного, но есть нечто иное, что они когда-нибудь станут преследовать. Хотя им следовало бы, уже познав это отсюда, стремиться туда, а стремясь, сначала достигнуть праведности здесь, ибо они пришли от божественной природы. От той природы, что внемлет прекрасному и презирает телесное удовольствие. Тем же, кто не причастен добродетели, вовсе не двинуться к тем высотам.
Показательно и то, что они не создали никакого учения о добродетели, полностью пренебрегли рассуждением о ней: не говорят, что она такое, сколько её видов, не рассматривают множество прекрасных вещей, открытых в речах древних, не указывают, из чего она состоит и как обретается, как врачуется и очищается душа. Ведь сказать «взирай на Бога» не приносит пользы, если не учит, как именно взирать. Ибо что мешает, скажет кто-нибудь, взирать и при этом не воздерживаться ни от каких удовольствий или быть необузданным в гневе, помня лишь имя Бога, но будучи охваченным всеми страстями и не пытаясь ни одну из них изгнать? Добродетель же, восходя к цели и вселившись в душу вместе с рассудительностью, являет Бога. Без же подлинной добродетели Бог есть лишь имя.
Этим финальным аккордом Плотин обнажает главную опасность гностицизма: его разрушительное воздействие на этику. Отрицая ценность космоса, его законов и традиционной добродетели, учение это подрывает саму основу нравственного совершенствования, оставляя человека во власти страстей под прикрытием ложной духовности. Истинный путь к божественному лежит не через презрение к творению, а через воспитание в себе справедливости, воздержания и разумения внутри этого мира, который сам есть образ высшего Блага. Таким образом, трактат завершается утверждением неразрывной связи космологии, этики и теологии: познание Бога невозможно без нравственного очищения, а нравственное очищение невозможно без признания благости и порядка мироздания.
16. О нечестии презрения к миру и его богам.
Плотин завершает трактат всесторонним обличением нечестия, заключённого в гностическом презрении к космосу и его богам. Он утверждает, что само это презрение не только не способствует становлению благим, но является признаком и причиной порочности. Всякий дурной человек и прежде того готов презирать богов; и не каждый, прежде чем стать дурным, презирает их, но сам факт презрения уже делает его таковым. Более того, даже их предполагаемое почитание умопостигаемых богов становится бесчувственным и лицемерным. Ибо тот, кто имеет любовь и родство к чему бы то ни было, с любовью принимает и детей того, кого любит как отца. А всякая душа – дитя того Отца. Души же, пребывающие в этих светилах, – разумны, благи и гораздо более сопряжены с умопостигаемым, чем наши. Ибо как мог бы этот космос быть отрезанным от него? И как – боги в нём?
Возвращаясь к теме промысла, Плотин вскрывает очередное противоречие. Утверждать, что промысел не простирается на здешние вещи или на что-либо, – как это благочестиво? И как это согласуется с их же словами, что Он печётся только о них? Печётся ли о них, когда они там, или и когда они здесь? Если там, то как они сюда пришли? Если здесь, то как они ещё здесь? И как Он Сам не присутствует здесь? Ибо откуда Он узнает, что они здесь? И как узнает, что они, будучи здесь, не забыли Его и не стали дурными? Если же Он знает тех, кто не стал дурным, то знает и тех, кто стал, чтобы отличить их от первых. Следовательно, Он присутствует всем и будет в этом космосе, каким бы ни был Его способ присутствия. А значит, и космос будет причастен Ему. Если же Он отсутствует для космоса, то отсутствует и для вас, и вы не могли бы говорить ни о Нём, ни о последующих сущностях.
Но если к вам приходит некий промысел оттуда, или что вы там ни хотите, то и космос имеет оттуда же и не оставлен, и не будет оставлен. Ибо промысел и причастность к целому гораздо больше, чем к частям, и тем более от той Души. Об этом свидетельствует само бытие космоса и его разумное устроение. Кто из высокомерно неразумных столь упорядочен и разумен, как целое? Сопоставлять – и смешно, и весьма нелепо, и тот, кто сопоставляет не ради рассуждения, не избегнет нечестия. Да и исследовать это – дело не разумного, а слепого, совершенно лишённого и чувства, и ума и далёкого от того, чтобы видеть умопостигаемый космос, который не видит этот.
Плотин завершает величественным эстетическим и духовным аргументом. Какой музыкант, увидев гармонию в умопостигаемом, не придёт в движение, услышав её в чувственных звуках? Или какой знаток геометрии и чисел, увидев соразмерность, пропорцию и порядок зримо, не возрадуется? Ведь не одинаково видят одно и то же даже на картинах те, кто видит взором искусства, но, узнавая в чувственном подражание тому, что пребывает в мысли, они как бы взволнованно приходят в воспоминание об истинном; от этого-то переживания и рождаются влюблённости. Но если видящий красоту, хорошо переданную в лице, устремляется туда, то настолько ли вял будет умом и ни к чему иному не подвигнется тот, кто, видя все красоты в чувственном, всю соразмерность, этот великий порядок и являющийся в звёздах образ, хотя и далёких, – не размышляет отсюда и не объят благоговением, помышляя, сколь великое от сколь великих? Значит, он не постиг ни эти вещи, ни те не видел.
Этим финальным пассажем Плотин утверждает космос как необходимую и прекрасную школу души, путь к божественному через созерцание его порядка и красоты. Истинный философ, подобно музыканту или геометру, видит в чувственном мире отблеск умопостигаемых истин и, восхищаясь им, восходит к их источнику. Презрение же к миру есть признак глухоты и слепоты души, неспособной ни к истинному восприятию, ни к подлинному знанию. Так трактат замыкает круг: защита космоса оказывается не просто полемикой с оппонентами, но утверждением самого метода философского познания, основанного на любви, благоговении и способности видеть единство всего сущего в его иерархической гармонии.
17. О созерцании умопостигаемой сферы и природе красоты.
Плотин обращается к возможному источнику гностической неприязни к телесной природе – платоновской критике тела как помехи для души. Но, утверждает он, даже если они, услышав от Платона много порицаний в адрес тела, почувствовали к нему ненависть, им следовало бы мысленно отбросить эту телесность и увидеть остающееся: умопостигаемую сферу, заключающую в себе форму, лежащую в основе космоса, души в порядке, которые без тел дают величие, приводя умопостигаемое к протяжённости, так чтобы величием возникшего бесплотное уподобилось в возможности образцу. Ибо то, что там велико в возможности, здесь – в объёме.
И хотят ли они мыслить эту сферу движущейся, вращаемой божественной силой, имеющей начало, середину и конец всего, или же пребывающей в покое как ещё не управляющей чем-то иным, – хорошо было бы прийти к понятию души, управляющей этим всем. Затем, уже присоединив к ней тело, – так что она не пострадает, но даст иному, ибо не должно быть зависти у богов, – иметь так, чтобы каждое получало, что может, и так им мыслить согласно космосу, давая душе космоса столько силы, насколько она, сделав не прекрасную по себе телесную природу, насколько возможно для неё прекрасной, причастной красоте. Это и самих божественных душ приводит в движение.
Разве что они сами скажут, что не приводятся в движение и не видят различно безобразные и прекрасные тела. Но так они не видят различно и безобразные и прекрасные занятия, ни прекрасные науки, а значит, и не видят созерцаний, а значит, и Бога. Ибо через эти первые [прекрасные вещи] – те. Если же не эти, то и не те; после тех – эти прекрасны.
Когда же они говорят, что презирают здешнюю красоту, хорошо бы им было презирать красоту в детях и женщинах, чтобы не быть побеждёнными невоздержанностью. Но следует знать, что они не гордились бы, если бы презирали безобразное, а гордятся, сказав сначала, что оно прекрасно. И как они при этом расположены? Затем, что не одно и то же красота в части и в целом, во всех и во всём. Затем, что есть такие красоты и в чувственном, и в частичном, какие принадлежат демонам, так что приходится удивляться создавшему и верить, что это оттуда, и отсюда невозможно выразить ту красоту, не удерживаясь за эти [образы], но идя от них к тем, не понося эти. И если внутреннее тоже прекрасно, говорить, что они согласны друг с другом; если же внутреннее дурно, что они уступают лучшим. Но, возможно, не бывает так, чтобы нечто было по-настоящему прекрасным снаружи, будучи безобразным внутри. Ибо у кого внешнее все прекрасно, то это от того, что внутреннее им владеет. А те, кого называют прекрасными снаружи, будучи безобразными внутри, – ложны, и внешнюю красоту имеют ложную. Если же кто скажет, что видел поистине прекрасных снаружи, но безобразных внутри, я думаю, он не видел, а считает прекрасными других. Если же и так, то безобразие для них приобретённое, по природе же они прекрасны; ибо много здесь препятствий для достижения совершенства. Но целому, будучи прекрасным, что мешало быть прекрасным и внутренне? Да и тем, кому природа с самого начала не дала совершенства, тем, возможно, и не суждено достичь конца, так что они могут стать и дурными; но целое никогда не было дитятей, чтобы быть несовершенным, и не присоединялось к нему нечто приходящее и добавляющееся к телу. Ибо откуда? Оно всё уже имело. Да и к душе никто не мог бы что-то прилепить. Но если бы и уступили им это, то всё равно не зло.
Этим сложным рассуждением Плотин возвращает дискуссию в русло подлинно платоновской эстетики и онтологии. Красота чувственного мира – не обман и не ловушка, а необходимый отблеск высшей красоты, который должен не презираться, а служить ступенью для восхождения. Полнота и совершенство космоса как целого гарантированы его вечным происхождением от совершенного образца; его «внутреннее» (его душа и умопостигаемая форма) прекрасно, и потому его «внешнее» (телесное проявление) не может быть по-настоящему безобразным. Таким образом, этический императив заключается не в отвержении мира, а в правильном созерцании его красоты как пути к абсолютному Благу. Гностическое же презрение оказывается следствием непонимания этой иерархии и неспособности к подлинному созерцанию, которое одно только и открывает божественное как в малом, так и в великом.
18. О правильном отношении к космосу и его обитателям.
На возможное возражение, что их (гностиков) речи побуждают бежать от тела издалека, ненавидя его, а его (Плотина) речи удерживают душу при нём, Плотин отвечает яркой аналогией. Это подобно двум жителям одного прекрасного дома: один порицает его устроение и строителя, но остаётся в нём не меньше другого; другой же не порицает, а говорит, что строитель создал его весьма искусно, ожидая времени, когда уйдёт туда, где больше не будет нуждаться в доме. Первый же считает себя мудрее и готовее уйти, потому что знает, как говорить, что стены сложены из бездушных камней и брёвен и далеки от истинного жилища, не понимая, что разница лишь в том, как переносить необходимое, если даже и не делать вид, что тяготишься, спокойно любуясь красотой камней. Но следует пребывать в домах, имея тело, устроенные душой-сестрой, доброй, имеющей великую силу творить без труда.
Или же они считают должным называть братьями даже самых дурных, а солнце и небесные светила отказываются называть братьями, и душу космоса – безумными устами? С дурными, конечно, не подобает вступать в родство, но с теми, кто стал благим, и кто не есть тела, но души в телах, и так могущими обитать в них, чтобы быть как можно ближе к обитанию души всего в теле-целом. Это и значит – не разбиваться и не поддаваться внешним воздействиям, приятным или зримым, и даже если что-то жёсткое, не смущаться. Та [душа космоса] не поражается, ибо не имеет от чего; мы же, будучи здесь, добродетелью могли бы отталкивать удары уже величием мысли – одни меньшие, другие же и не поражающие, ставшие таковыми из-за силы. Приблизившись же к неподверженному ударам, мы подражали бы душе всего и звёзд, а придя в близость подобия, стремились бы к тому же, и то же было бы для нас в созерцании, поскольку и мы подготовлены прекрасными природами и заботами; им же это присуще изначально.
Не потому, что одни они говорят, будто могут созерцать, они будут созерцать больше, и не потому, что им, как они говорят, дано уйти, умерев, а тем – нет, ведь они вечно украшают небо. Ибо по неведению они говорят о том, что вне, что бы это ни было, и о том, каким образом душа всего заботится о бездушном.
Итак, возможно и не быть привязанным к телу, и становиться чистыми, и презирать смерть, и знать лучшее, и стремиться к тому, и не завидять другим, способным стремиться и всегда стремящимся, будто они не стремятся, и не страдать тем же, что и те, кто думает, что звёзды не божественны, ибо чувство говорит им, что они неподвижны. По этой же причине и сами они не думают, что видят природу звёзд вне, ибо не видят их душу, пребывающую извне.
Этим завершающим аргументом Плотин окончательно разводит подлинный философский аскетизм с гностическим отрицанием мира. Истинное освобождение – не в ненависти к дому-космосу и его Строителю, а в спокойном признании его красоты и искусности, в духовном упражнении, которое позволяет, находясь в нём, не быть им порабощённым. Нравственный и духовный прогресс заключается не в презрении к светилам как к «бездушным камням», а в распознавании в них одушевлённых братьев, в подражании их бесстрастному и упорядоченному бытию, и, в конечном счёте, в восхождении через созерцание космической гармонии к её умопостигаемому источнику. Гностическое высокомерие, таким образом, оказывается не признаком духовного превосходства, а симптомом глубокого невежества, неспособности увидеть душу в том, что кажется лишь материей.
О проекте
О подписке
Другие проекты