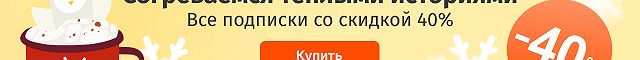
Неразумные люди легко поддаются таким речам, внезапно слыша, что станешь лучше всех не только людей, но и богов (ибо в людях велика самонадеянность). И человек, прежде скромный и простой, услышав: «Ты – сын Бога, а другие, кого ты чтил, – не сыны, и почтенные ими отцы – ничто, а ты сильнее и неба, ничего для того не сделав», – поддаётся, особенно когда другие подхватывают это. Это подобно тому, как если бы среди не знающих счёта человек, не знающий, что такое тысяча локтей, лишь воображал бы, что тысяча – большое число, и считал бы себя тысячелоктевым, а других – пятилоктевыми.
И наконец, Плотин задаёт убийственный риторический вопрос: если, как утверждают гностики, Бог печётся о вас, то почему же Он небрежёт всем космосом, в котором и вы пребываете? Если Ему недосуг или неприлично взирать вниз, то, взирая на вас, разве Он не взирает вовне? А если не взирает вовне, чтобы не видеть космос, то и вас не видит. Но вы в Нём не нуждаетесь? Однако космос нуждается и знает Его порядок, и знают те, кто в нём, как в нём пребывать и как – там. И мужей, что дружны с Богом, кротко переносящих то, что нисходит на них от космоса по необходимости от движения всего (ибо надлежит взирать не на прихоть каждого, а на целое), чтящих каждого по достоинству и всегда стремящихся туда, куда стремятся все способные к тому. Многое там стремится, и достигшие блаженны, а прочие имеют подобающий им удел, насколько возможно. Но они не присваивают себе единолично эту способность, ибо то, что они заявляют как обладание, на деле – не обладание. Многие, зная, что не имеют, говорят, что имеют, и думают, что имеют, не имея, и что лишь они обладают тем, чем они одни не обладают.
10. О методе полемики и высшей нелепости гностического мифа.
Завершая трактат, Плотин указывает, что при желании можно было бы привести ещё множество, а точнее, бесчисленные доводы в защиту каждого положения, демонстрируя, как всё обстоит на деле. Однако его удерживает некое чувство стыда перед некоторыми друзьями, которые, познакомившись с этим гностическим учением раньше, чем сблизились с ним, остаются, он не знает почему, приверженцами его. При этом сами гностики не стесняются – желая, чтобы их мнения считались истинными и заслуживающими доверия, или же искренне веря в их истинность – говорить то, что говорят. Но Плотин пишет не для них (ибо нет пользы в том, чтобы их переубеждать), а для своих знакомых, чтобы те не терпели беспокойства от их притязаний, основанных не на доказательствах (ибо откуда им взяться?), а на голом упрямстве.
Плотин отмечает, что существует иной способ полемики, которым можно было бы защищать древних и божественных мужей от поношения тех, кто дерзает хулить их правильно и в согласии с истиной сказанные слова. Такой способ исследования следует оставить. Ибо тем, кто точно поймёт сказанное здесь, будет ясно и обо всём остальном, как оно обстоит. Но одно следует сказать в заключение, и это превосходит всякую меру нелепости, если только это можно назвать нелепостью.
Воспроизводя гностический миф, Плотин доводит его абсурдность до предела: утверждая, что душа склонилась вниз и что некая «Премудрость» (София) – будь то сама душа, начавшая это, или причина такой премудрости, или же они тождественны – они говорят, что все прочие души сошли вместе с ней и являются членами этой премудрости. Эти-то души, по их словам, и облеклись в тела, например, человеческие. А та самая, ради которой и они сошли, – её, говорят они, опять-таки не сошла, то есть не склонилась, но лишь озарила тьму, и от неё затем возникло отображение в материи. Потом, вылепив из этого отображения ещё одно отображение уже здесь, из материи или материальности (или как они это ни назови), говоря то одно, то другое и нагромождая множество имён для затемнения смысла, они порождают так называемого у них Демиурга и, оторвав его от матери, заставив создать мир, низводят его до последних пределов отображений, – так что сильно поносит того, кто это написал.
Этим саркастическим резюме гностического мифотворчества Плотин подводит итог: учение это не только противоречиво и заимствовано, но и достигает вершины бессмысленности в своей собственной мифологической структуре, порождая бесконечные и ненужные сущности (эйдола эйдолон) и затем хуля собственное же порождение. Это есть окончательный приговор со стороны философского разума, требующего ясности, простоты и внутренней согласованности, против произвольного и затемнённого мифологизма, прикрывающегося претензией на высшее знание.
11. Разбор внутренних противоречий гностического мифа.
Начиная заключительную критику, Плотин детально разбирает гностический миф о Софии и её «излучении», выявляя его внутреннюю несостоятельность на каждом шагу. Первый вопрос: если она не сошла, а лишь озарила тьму, то как можно говорить, что она «склонилась»? Если от неё что-то истекло, подобно свету, это ещё не значит, что она сама склонилась. Разве что если что-то уже лежало внизу, а она приблизилась к нему пространственно и, став близко, озарила. Но если она, оставаясь на своём месте, озарила, не приложив к этому усилий, то почему озарила только она, а не более могущественные, чем она, сущности? Если же она смогла озарить благодаря тому, что замыслила мир, то почему, озарив, она не создала мир сразу, а остановилась на порождении призраков?
Далее, и сам этот замысел мира, их так называемая «чужая земля», созданная высшими силами, по их же словам, не привёл к склонению тех, кто её создал. Затем: как материя, будучи озарённой, производит душевные призраки, а не природу тел? Призрак души вообще не нуждался бы во тьме или материи, а, возникнув, следовал бы за своим творцом и был бы с ним связан.
Затем вопрос: это призрак – сущность или, как они говорят, мысленный образ? Если сущность, то чем она отличается от своего источника? Если же это иной вид души, и если та была разумной, то, возможно, эта – растительная и порождающая. Но если так, то как она ещё может творить ради почёта, а тем более – из дерзости и наглости? И вообще, всякое творение через фантазию, а тем более через расчёт, исключается. Да и к чему было ещё создавать творца из материи и призрака? Если же это мысленный образ, то, во-первых, надо указать источник этого термина; во-вторых, как он существует, если не наделить сам мысленный образ способностью творить? Но при таком вымысле – как возможно творение? Сначала это, потом то – словно они говорят с полной произвольностью.
И наконец, самый простой и разоблачительный вопрос: почему первым был создан огонь? Этот внезапный и наивный вопрос обрывает сложные спекуляции, возвращая к элементарной необоснованности их космогонической схемы. Вся конструкция оказывается произвольным нагромождением сущностей, лишённым внутренней необходимости и логической связности, что и демонстрирует её философскую несостоятельность. Этот метод критики, разбирающий теорию на составные части и показывающий их нестыковку, остаётся классическим образцом рациональной полемики против догматического мифотворчества.
12. О невозможности творения по памяти и истинных причинах космоса.
Плотин продолжает критику, сосредотачиваясь на нелепости творческого акта гностического Демиурга. Согласно их мифу, этот только что возникший призрак (эйдолон) принимается за творение по памяти (мнэмэ) того, что он видел. Но, возражает Плотин, в принципе не существовало ни его самого, ни его «матери» (Софии), чтобы им было что видеть! Если же допустить это, то возникает вопиющее противоречие: сами гностики признают, что их собственные, подлинные души, пришедшие в этот мир, – не призраки, а истинные души, – лишь с трудом и едва ли одна-две из них могут оторваться от мира и с великим трудом восстановить в памяти то, что когда-то видели. Как же тогда этот материальный призрак, только что возникший, и к тому же, как они говорят, смутный, может не только вспомнить те вещи или свою мать, но и получить понятие о том мире и даже понять, из чего следует творить? Откуда, например, взялась мысль создать первым именно огонь? Разве он решил, что это нужно? Но почему не что-то иное? Если он мог создать огонь, просто подумав о нему, то почему, подумав о мире (а сначала надо было подумать именно о целом), он не создал мир весь сразу, одним махом? Ведь и огонь, и всё прочее уже содержалось в этой мысли.
Плотин противопоставляет этому искусственный, ремесленный образ творения естественному, природному. Гностический Демиург действует как ремесленник, последовательно собирающий части, подобно ремесленнику или художнику, как если бы он был изобретателем, скажем, цитры, которой ранее не существовало. Такие искусства (технэ) вторичны по отношению к природе и космосу. В природе же всё происходит иначе: когда образуются живые существа, не возникает сначала огонь, потом каждый элемент, потом их смешение. Нет, происходит облечение и очертание, накладывающее отпечаток на менструальной крови, сразу формирующее всё живое целое. Почему же там материя не была сразу обведена отпечатком мира, в котором были бы уже и земля, и огонь, и всё остальное? Возможно, они скажут, что сами бы так создали мир, пользуясь более истинной душой, а тот Демиург так создать не умел. Но это абсурдно: предусмотреть величину неба, точнее, его именно такую величину, наклон зодиака, движение планет, устроение земли так, чтобы можно было указать причины, почему всё так, – это не дело призрака, а явно результат силы, исходящей от наилучшего. Что, кстати, они и сами невольно признают.
Далее Плотин возвращается к ключевому моменту – «озарению тьмы». Если озарение необходимо, то оно либо согласно природе, либо вопреки природе. Если согласно природе, то так было всегда (и космос вечен). Если же вопреки природе, то противоестественное уже существует «там», в умопостигаемом, и зло предшествует этому миру; и не космос причина зол, а тамошние вещи – ему; и душа приносит зло не отсюда, а от себя самой. И рассуждение неизбежно возведёт космос к первым причинам. То же и с материей: откуда она явилась? Ибо душа, склонившись, уже увидела, как они говорят, существующую тьму и озарила её. Но откуда же сама тьма? Если же они скажут, что она сама произвела её, склонившись, то, значит, не было того, куда бы она склонилась, и не тьма была причиной склонения, а сама природа души. Но это то же самое, что и предыдущие необходимости. Следовательно, причина опять-таки в первоначалах.
Таким образом, все попытки гностиков вывести зло и несовершенство из некоего промежуточного падения или заблуждения ведут к логическому тупику, заставляя в конечном счёте искать причину либо в вечной природе высших начал (что ведёт к признанию необходимости и вечности космоса), либо в них же как источнике зла (что разрушает их же концепцию блага). Плотин последовательно показывает, что его стройная и экономная система, восходящая от совершенного космоса к простому Единому, логически неизбежна и не оставляет места для произвольных и противоречивых мифологем.
13. О невежестве хулящих космос и природе зла.
Тот, кто порицает природу космоса, не ведает, что творит, и не понимает, куда заводит его эта дерзость. Невежество это проистекает из незнания порядка последовательных начал: первых, вторых, третьих и так вплоть до последних. Не должно поносить худшее из-за лучшего, но следует кротко согласиться с природой всего, самому устремляясь к первому и оставив трагедию мнимых ужасов в сферах космоса, которые, в сущности, творят для них всё благостным. Ибо что страшного в них, чтобы пугать неискушённых в рассуждениях, не слышавших образованного и гармоничного знания? Не потому ли, что тела их огненны? Но страшиться надо соразмерно целому и с оглядкой на землю, а взирать следует на их души, коим и они, несомненно, желают быть почтенными. Да и тела их, превосходящие величиной и красотой, содействуют и помогают происходящему по природе, чему никогда не быть, пока есть первые начала, и они дополняют целое, будучи великими частями вселенной. Если человек имеет некое достоинство перед прочими животными, то тем более эти светила, пребывающие во всём не ради тирании, а ради того, чтобы давать миру порядок и строй.
А то, что говорят о происходящем от них, следует считать знамениями грядущего. Происходящее же бывает различным и зависит от случайностей (ибо невозможно, чтобы с каждым случалось одно и то же), от сроков рождений, от мест, весьма удалённых друг от друга, и от состояний душ. Не должно вновь требовать, чтобы все были хороши, и, поскольку это невозможно, не спешить порицать, словно эти вещи ничем не отличаются от тех. И зло не должно считать чем-то иным, кроме как недостаточным в отношении разумения и меньшим благом, всегда движущимся к меньшему. Как если бы кто называл природу злом, потому что она не есть ощущение, а ощущающее – потому что оно не есть разум. Иначе они будут вынуждены признать, что и там есть зло: ибо и там душа хуже ума, а ум – меньше иного.
Этим финальным рассуждением Плотин не только защищает космос, но и даёт онтологическое определение зла. Зло – не положительная сущность, а недостаток, лишённость, ослабление блага, необходимо возникающее при удалении от Первоначала. Оно не врывается в мир извне через злую волю, а проистекает из самой структуры бытия как его последний и наименее совершенный предел. Поэтому порицать мир за наличие зла – значит не понимать самой природы иерархической реальности. Истинная задача – не хулить низшее, а устремляться к высшему, преодолевая в себе то самое «движение к меньшему», которое и есть корень всякого несовершенства. В этом заключён глубокий этический императив: вместо того чтобы проецировать своё недовольство на мироздание, следует заняться самосовершенствованием, признавая космос необходимым и прекрасным отражением высшего Блага.
14. О магических практиках и истинной философской простоте.
Особое негодование Плотина вызывает магический и теургический аспект гностического учения, который, по его мнению, особенно ярко демонстрирует его несостоятельность и профанацию высшего. Он обличает практику заклинаний (эпаойда), которые гностики адресуют не только душам, но и высшим сущностям. Что они делают, как не колдовство, чары и попытки убедить и подчинить разумом эти сущности, чтобы те повиновались словам? Они полагают, что тот, кто искуснее в произнесении определённых заклинаний, звуков, напевов, выдохов и шипений, может магически воздействовать на умопостигаемое. Но если они не хотят признавать это колдовством, то как могут бестелесные сущности подчиняться голосам? Таким образом, те, кто стремится придать своим речам больше величия, сами того не замечая, лишают величия те самые сущности, к которым взывают.
Переходя к медицинским претензиям, Плотин разбирает утверждения об изгнании болезней как демонов. Если бы они говорили об очищении через воздержание и умеренный образ жизни, как учат философы, это было бы правильно. Но они, предполагая, что болезни суть демоны, и утверждая, что могут изгонять их заклинаниями, кажутся более внушительными в глазах толпы, восхищающейся силой магов, но не убеждают здравомыслящих. Ибо причины болезненны очевидны: усталость, пресыщение, недостаток, разложение, вообще изменения, берущие начало извне или изнутри. Об этом свидетельствуют и методы лечения: когда желудок очищается или даётся лекарство, болезнь выходит наружу; кровопускание или голод также исцеляют. Что же тогда происходит с демоном? Если он проголодался от лекарства или растворился, или вышел целиком, или остался внутри? Если остался, то почему при его присутствии болезнь прекращается? Если вышел, то почему? Разве что потому, что он питался болезнью. Значит, болезнь была отлична от демона. Далее: если демон входит без причины, почему мы не болеем всегда? Если же для входа нужна причина, то зачем нужен демон для самой болезни? Причина лихорадки сама по себе достаточна, чтобы её произвести. Смешно предполагать, что одновременно с причиной тут же как бы подставляется готовый демон.
О проекте
О подписке
Другие проекты