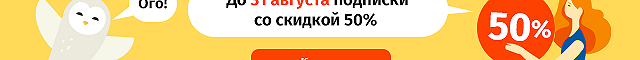
Глава 5
Между тем командировочные дела мои почти не продвигались. Я силился разглядеть в далекой дали их окончание – тщетно. Здесь, на базе, много людей. Бородатых, седых и лысых. С мохнатыми звёздами на плечах и в гражданских пиджаках. И у тех и у других глубокие академические борозды ума над кустистыми бровями. И на тех и на других груз ответственности принятия важного решения. За каждым из них организации с такими страшными названиями, что меня колотит коленная дрожь, затрудняя мыслительный процесс.
Я среди этих людей, и мы все числимся умными. Вернее, все другие, кроме меня, точно знают, что они умные. В себе я не уверен. Хотя и стараюсь, подражая адмиралам и академикам, сдвигаю брови и вытягиваю губы. Ещё перед тем как высказать вслух мысль, я научился тянуть букву «э» и небрежно откидывать полу пиджака.
Получилось так, что рядовая командировка неожиданно обернулась для меня затянувшимся участием в решении государственных вопросов, которые должен был по статусу решать специалист как минимум на две должности выше меня.
В день моего приезда на базу флота на одной лодке случилась авария. Разгерметизация первого, активного контура. Министерство обороны со всей России собрало специалистов самого высокого уровня. От нашей же организации там по рутинным делам оказался я, и мне было велено задержаться, чтобы представлять контору.
И они все там думали, что я такой же умный и специалист. И я целыми днями соответствовал. А вечером, созвонившись со своими мэтрами, узнавал у них, как соответствовать завтра.
Нам всем, умным, очень нужно было попасть в аварийный отсек реактора, но химики базы сказали твёрдое «нет». Все академики – и я – спрашивали возмущённо: «Почему?»
– Потому, – отвечали химики. – Грязно там. Радиация. Неделю будем дезактивировать.
– Но… – негодовали академики, и я тоже, но не успевали возразить, так как нам демонстрировали спины.
Несколько дней академики изучали вахтенный журнал лодки. Этот журнал заполняется дежурным каждый день, на любом корабле. В нём фиксируется всё: когда и какой механизм включили, выключили, кто, когда и с какой целью прибыл на корабль и всё остальное. Вот мы и стали его изучать, для того чтобы уяснить, как действовали моряки во время аварии. А уяснив, отправить в свои организации подробный отчёт об этом.
Все седые и умные – и я с ними – распределились по очереди. Журнал-то один, а нас много.
И тут я испугался. За моряков. Умные дядьки скрупулёзно, слово в слово, букву в букву, переписывали себе на листочки заметки из вахтенного журнала. А журнал этот, я бы сказал, очень тонкая вещь. Личная, я бы добавил. В него изо дня в день, годами, все события записывают до деталей, и никто посторонний в него не заглянет. А пишется всё-всё, до самых-самых мелочей. Известна старая мудрая морская поговорка: «Записал, но не сделал – халатность; сделал, но не записал – преступление!» Вот и пишут в журнал дежурные всё, что положено. А порой и то, что совсем не положено, развлекаются.
И тут я вспомнил журнал лодки, на которой когда-то служил. А вспомнив, покраснел и ещё больше испугался. Я-то во время дежурства вёл себя почти смиренно. Лишь пробовал разный почерк, вплоть до ленинского – хрен чего поймёшь. Ну ещё иногда развлекался не вполне уставными записями: «7.30. Прибыл экипаж. И мичман Кузнецов тоже, у которого вчера был день рождения. Вот зачем он это сделал? Сказался бы больным. Теперь все тараканы мои – его каюта за переборкой. Сука, Лёха, с днём рождения!»
Или так ещё: «Окончено осушение трюма второго отсека погружным насосом. Чтоб не заквакало, приказал сушить под ветошь. Проверил – сухо, как у монашки в причинном месте».
Вспоминаю и другие записи, уже не мои: «2.00. На пирс прибыл начальник штаба. Снял верхнего вахтенного с дежурства за чтение книг порнографического содержания. Я не знаю, может, у него обычай такой – по ночам колобродить. И где я ему другого верхнего найду ночью? На лодку не спустился, к соседям пошёл. И на том ему глубокое мерси. Хо-хо, чего же боле».
Помню, стоял как-то на вахте наш штурман Игорёк. Верхний вахтенный доложил, а Игорь красиво записал в журнал: «На пирс прибыл вице-адмирал такой-то». Написал и выскочил наверх доложить и встретить начальника. И только перед сдачей вахты Игорь заметил, что чуть ниже той его записи, кто-то, копируя его почерк, рассудительно добавил: «Да и хрен с ним».
Был у нас затейник, Сашка-минёр. Писал он много. Но что именно, порой и сам потом разобрать не мог. Но дело не в этом. За сутки на вахте дежурный много раз расписывается. Так вот, Сашка всё время делал это по-разному. И не подписями, а рисунками, к которым имел тягу и способности с детства. Рисунки его подписные всегда были приурочены к какому-нибудь празднику. Грядущему или прошедшему. К Восьмому марта он вместо подписи рисовал голую женщину с грудями разной величины. В канун 23 февраля – красивую торпеду, а у её основания – пару сверкающих, чуть волосатых ядер. На новогодние праздники, понятно, ёлочка с игрушками, под которой – пьяный дедушка. На день влюблённых тоже что-то рисовал. Не сердечко, конечно. Другую валентинку.
Я как вспомнил всё это, как увидел, что академики мои вчитываются, потея, в морские каракули, так и съёжился весь. Сижу, слушаю, смотрю. Ничего, вроде. Кажется, никто стыдливо не краснеет. Читают, передают журнал дальше. Вот он уже перешёл к дедушке, что рядом со мной сидел. Долго тот его вертел. Всё искал чего-то, запись какую-то важную. Пролистал до последней страницы. И замер.
И на меня глаз скосил испуганно. Заметил, что я словил его испуг, и тут же захлопнул журнал, сделав вид, что всё, что ему было нужно, он уже нашёл. Передал мне.
Я нашёл нужное и сделал выписки по аварии. Моряки действовали чётко, грамотно и отважно. А на последней странице, так смутившей дедулю, кто-то ручку расписывал. Всего лишь. При выполнении такого привычного действия, естественно, уходишь мыслью глубоко в подсознание. Оно же после пустых борозд и выдало то, что в нём и находилось в тот момент у моряка. А именно – троекратное повторение названия мужского полового органа.
А на корабль нас всё ещё не пускают. Говорят – неделю ждать. Если так, то, возможно, через пару недель куплю билеты домой. Билеты к тебе. Так и скажу в кассе Аэрофлота: «Мне, пожалуйста на ближайший рейс Северная база – любимая моя». И пусть там все думают, что я идиот. Они просто никогда не видели тебя.
Ты молчала. Уже целых два дня невыносимо молчала. Не отвечала, не брала трубку, не писала писем. Во мне вскипело безумие из-за такого тотального отсутствия тебя. Я ходил, плавал полумыслью, полурёвом-полустоном надрывал сердечную мышцу – половина я! Без тебя – одинокая заброшенная половина! Сам виноват – зачем вспомнил о твоих прошлых любовях недавно в телефонном разговоре? Обидел рыком раненного зверя, закапканенного самим собой. Дурью своей, ревностью обидел. До слёз.
Когда же домой? Когда же к тебе? Постучусь в порог осторожно, буду стлаться змеёй по твоим следам, буду молить о пощаде-прощении, твердить, что дурак, что труден порою мозгами, что люблю тебя жизни всей больше, что гибну.
Когда же домой?
Глава 6
Как пронзительно холодно оказаться на краю Земли без тебя, да ещё порвать по дурости нить, связывающую с тобой. Без тебя ничего не желается, холод колет и рвёт ткани моего неуклюжего тела.
Ты где-то далеко, не географически, а совсем далеко от меня. Настолько, что мысль моя не пробивается сквозь толщи ледяные. Холод снаружи, холод внутри меня.
Как глупо получилось: я разбирал файлы в ноутбуке, увидел снимок, резанувший по глазам, и понеслось… Кто поймёт природу стихии, место рождения смерча кто укажет? И никто не знает, как с этим бороться.
Мне кровь хлынула в щёки от этого снимка, а рикошетом ударило по тебе, заковало в лёд тело, душу, сердце. Холод огородил тебя белым, сверкающим накатом до неба, до солнца, до космоса – обжигает красотой холода дворец твой. Сидишь в красоте безмолвия белой ночи, без движения, без счастья, без любви.
А я снаружи, отрезанный от тебя.
Но любовь не позволит вырвать тебя из моих сведенных болью пальцев, побелевших так, что на фоне ледяного дворца твоего они незаметны.
Как невыносимо тяжко вслушиваться в твоё молчание, перепонки лопаются от тишины твоей немоты.
Я, повисая в клубах сигаретного дыма ночных гостиниц, продолжил придумывать Юрку, схватился за него, как за прибрежный камыш, чтобы не утонуть в омуте-без-тебя.
* * *
Живую, но почти не дышащую сестрёнку принёс на руках сосед. Юрке стало страшно. На всю жизнь самыми неприятными вещами станут те, чья природа будет Юрке непонятна. Сейчас произошло первое соприкосновение с чем-то именно таким.
Соседи рассказали, что девочка спокойно играла в песочнице, вдруг медленно начала оседать и повалилась на бок. Маленькое тело забилось в конвульсиях, изо рта пошла пена.
Какие-то слова грозно кричал, путано доказывал пьяный отец – обвинил во всем случившемся Юрку и выгнал его из дома.
Юрка ходил между домами и слушал сон города. Не плакал – считал себя уже взрослым. Под утро вернулся – замёрз очень. Холод сосчитанных на небе звёзд взял его изнутри.
Настало время бесконечных и бесполезных врачей, больниц и ночных дежурств у палаты. Время воткнутой в тело в области сердца здоровенной иглы, прилепленной пластырем. От иглы – длинный, прозрачный провод наверх, к перевёрнутой бутылке.
Девочка улыбалась брату и маме, говорила, что больно, но она уже привыкла. Катетер из-под сердца не извлекали, потому что днём сестра всё время была под капельницами. На ночь иглу вынимали, дырку заклеивали пластырем, а утром всё по новой.
Так продолжалось два длинных года. Больницы, врачи. Врачи, больницы, палаты. И разные диагнозы. Всегда разные. Каждый врач боролся со своей болезнью, а приступы продолжались.
Наконец все доценты и академики развели руками и сказали: единственное, что остаётся, – постоянный пожизненный прием сильнодействующего препарата, гарантирующего отсутствие приступов. Фенобарбитала.
После года такого «лечения» сестра стала сильно отставать в развитии. Во дворе над ней часто смеялись. И тогда Юрке приходилось драться.
В школу её всё-таки взяли. В класс для умственно отсталых детей. Кстати, в городе была только одна школа, где имелись коррекционные классы. Юркина школа. Теперь над ним смеялись и в школе.
В очередной раз кончилось Юркино детство. А было ли оно? Создавалось впечатление, что некто чёрный ворвался и перемешал все краски, превратив некогда чудную картину мира в безобразное творчество опьяневших держателей власти. Будто свежий, непросохший, написанный маслом шедевр смазала закопчённая ладонь шахтёра.
Со временем у Юрки проявилась взрослая манера легко высказывать вольные мысли – манера, поражающая одноклассников и учителей. Мысли он ронял небрежно, совсем не заботясь о том, что их можно подобрать и присвоить себе, напугаться или пугать других. Они, мысли, звучали так, словно в пустой огромной зале кто-то ронял на мраморный пол монетки, по одной.
Предметом трепетной любви стала математика. А формула разложения суммы квадратов даже возвела его на пик школьного математического олимпа.
Дело было так. Однажды Юрка, отсидев привычные полночи над любимыми цифрами, восстановил математическую справедливость.
– Вот, – положил он на стол учительнице исписанный мелким, аккуратным почерком листок, – Посмотрите, Валентина Ивановна, я придумал формулу разложения суммы квадратов.
– Интересно, я взгляну после занятий.
На следующий день Юрка ожидал ответа Валентины Ивановны, но когда настал наконец любимый урок и он влетел в любимый кабинет к любимой учительнице за неизбежными похвалами и внеочередным званием умнейшего умника, то всё случилось не так, как ожидалось.
– Я посмотрела, – сказала тихо Валентина Ивановна. – Всё верно. Только, видишь ли, в разложении ты использовал радикалы и дробные степени, отчего ценность сделанного тобой сильно снижается ввиду трудности использования.
И вернула листок расстроенному Юрке. После этого он разлюбил учительницу математики, не оценившую по достоинству его труды.
Прошло два года и Юрке – уже десятикласснику – поручили вести факультативные математические занятия с девятым классом. Факультатив посещали очень грамотные ребята. И поначалу Юрку встретили скептически. «Ну чему, спрашивается, может научить человек, который всего на год старше?» – так примерно думали парни.
Тогда-то и настало время достать из рукава ту припрятанную «сумму квадратов».
– Вот простая система из двух уравнений. Если решите, откажусь от занятий и скажу учительнице, чтобы освободила меня, поскольку не справился, – предложил своим подопечным юный учитель.
Система уравнений показалась простой, и девятиклассники охотно согласились. Но прошёл день, затем неделя, другая, а результата всё не было. Несколько раз к нему подходили сияющие ученики с исписанными формулами тетрадями в руках, но всякий раз в решении находились ошибки. На третьей неделе сдались все, кроме троих, самых упорных. Но и у них ничего не получалось. Наконец не выдержали и они и попросили показать решение.
А всё оказалось просто. И строилось решение на том самом разложении квадратов. И когда Юрка, краснея, сказал ещё, что формула принадлежит ему, то подопечные признали: этот парень имеет право учить их – отличников и победителей олимпиад, лучших учеников школы.
* * *
Я, видимо, так и уснул за столом, лбом в исчёрканные листы, левая рука под скулой, а правая зажала авторучку. Разбудил будильник – на работу, которой конца не было видно.
Кажется, в тот день я кому-то нахамил. Источать добро и свет вокруг себя желания не было – коллеги своей хвалёной военной дисциплиной отдаляют встречу с тобой. Не до благодушия мне.
Вечером, без особой надежды на ответ, отправил всё написанное о Юрке тебе. И снова не спал ночь, от злости занимал себя придумыванием матерных стихов. А утром пришёл, пришёл от тебя ответ.
Ты писала, что это не литература, а баловство. Что если мне так удобней, то, конечно, да, балуйся, а вообще-то получилась полная фигня, и надо бы убить в себе писателя, придушить попытку так думать и даже захаркать матюгами того, кто не согласится с этим.
И пусть, и пусть такой ответ. Всё равно какие, лишь бы твои слова. Твои. Для меня. Чудо-инъекция, неясно от какой именно болезни, впрыснутая вовремя. Я выздоровел. Ушла злость, и снова появилась надежда быть с тобой, быть для тебя. Я написал тебе нечто любовное до дрожи, до судороги. Мне очень понравилось то, что я написал, и было мало дела до литературы в моих письмах.
Ты позвонила сама утром, тихонько щебетала в меня, радостного:
– Читаю твои письма весь день, пытаюсь ухватить какую-то важную мысль, а она скользит рядом, но не даётся… и пальцы у меня неповоротливые нынче, чтобы таких мотыльков ловить.
– Не читай. Потом.
– Писать не могу ничего, тоже из-за медлительности мысли.
– Не пиши.
– То, что произошло страшное, – тоже не сказать словом. Если говорить о моей реакции, то что это было? Обида? Нет. Ярость? Нет. Оторопь? Пожалуй. Эта твоя реакция… Ладно, пусть ревность. Но ты не стал спрашивать меня ни о чём. Сделал молниеносные выводы, которые мотивированы только одним: «меня выставляют в смешном свете, издеваются!» В таком состоянии ты не думаешь уже ни о чём. Ты не думаешь о том, что почувствую я. Тобой движет лишь яростное желание крикнуть: «я – не дурак!» Когда ты видишься мне таким, это нестерпимо, я делаю себе ментальную анестезию и замораживаюсь. Вот и всё.
– Не всё. Я во всём виноват. Ты должна, ты обязана меня простить.
О проекте
О подписке