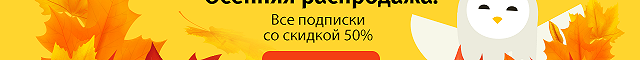
Глава 3 Кукурузные дети
Зорька дергает поводья и фыркает, как будто ей тоже не хочется никуда ехать. Телега гремит и стонет, вот-вот развалится. Дорога вся в выбоинах, застывших трещинах, по которым можно изучать землетрясения. Я сижу между Саввой и Темой, держусь за край, а ноги висят, босые, грязные. Под ногами валяются грабли, мешки, моток веревки и фляга.
Отец сидит впереди. Он не говорит ни слова. Лицо его сжато, как кулак. Только смотрит вперед и щелкает языком, когда Зорька начинает вилять. Пыль забивается всюду: в глаза, в рот, в уши. Я прикрываюсь ладонью, но ничего не помогает. Солнце палит безжалостно, будто раскаленная до бела печь.
Мы едем на кукурузное поле. Оно за холмом, за руслом, где раньше текла речушка. Обычно мы приходили сюда мыться, стирать одежду и таскать воду домой ведрами. Нас с братьями от реки за уши нельзя было оттащить! Могли посинеть губы, пальцы, вообще вся кожа, да еще и пупырышками покрыться, а мы все равно сидели в воде. Плавать нас никто не учил, родители, наверное, умели, я не знаю. Мыться они всегда ходили в другое от нас время. Но вода истончалась. Я было обрадовался, что начал быстро расти, потому что течение стало доставать мне до ключиц, а не до подбородка, но потом понял, что русло мельчало. Месяц назад оно окончательно пересохло. Ни капельки. Кое-какие запасы хранились у нас в погребе, но таким количеством воды скотину не напоишь. Отцу пришлось начать покупать воду в городе, последний раз он обменял ее на Чернышку, нашу корову. Она мне нравилась.
От кукурузного поля тоже осталось одно название. Теперь там в изобилии водились только камни и ящерицы. Если на поле совсем ничего не вырастет – зима будет злая, дожить бы еще до этой злой зимы. Когда мы доезжаем, я думаю, что это не поле, а кладбище. Кукуруза, опаленная, желтая, высохшая. Стебли хрустят, как сломанные кости.
Отец сходит с телеги и молча направляется вглубь. Мы берем мешки и идем следом. Савва первым, Тема рядом, я отстаю. Брожу между рядами и всматриваюсь в сухие листья. Иногда попадается початок, маленький, тонкий, с тусклыми зернами. Я срываю его, кладу в мешок. Шелуха шуршит, как бумага. Кукуруза почти не пахнет. Только пыль и сухость. Чем дальше иду, тем больше все одинаковое. Ряды, ряды, ряды. Листья выше меня, небо узкое.
Я вдруг понимаю, что вокруг никого. Только я и шелест.
Я зову:
– Савва?
Пауза.
– Тема?
Тишина.
Сердце бьется быстрее. Я иду, иду, начинаю бежать. Все одинаковое. Я останавливаюсь. Оборачиваюсь. Все стороны одинаковые.
Я кричу:
– Але! – Это я! – Эй!..
Но голос отдается глухо и тут же возвращается обратно, кукуруза съедает звук. Я чувствую, как к горлу подступает что-то соленое. Мне уже семь с половиной, я не должен плакать. Чтобы не разрыдаться, я начинаю петь. Стою и пою. Сначала тихо, потом громче. Просто песню, любую. Про листья. Про себя. Про то, что я – вот здесь. Песни не теряются, как крики. Песни идут дальше.
Через пару минут издалека слышу:
– Заткнись уже, воробей!
– Савва! – кричу.
– Ты где, мелочь?
– Тут!
Через заросли пробираются Савва и Тема. У Саввы мешок почти полный. Он смотрит на меня исподлобья:
– Ты опять потерялся?
– Я не терялся. Это поле большое.
– Ладно другие, – подхватывает Тема, – но ты как умудрился в кукурузе потеряться. Кукуруза у тебя родной дом. Ты же сам кукурузный!
– Никакой я не кукурузный! – возмущаюсь. – Нормальный я.
Братьев уже не остановить.
– Вот мы с Темой настоящие, а ты – кукурузный, – смеется Савва. – Тебя нашли в поле. Среди стеблей. В коробке. Вместо пеленок – шелуха.
– А я слышал, тебя в гнезде высиживали, – говорит Артем. – Сорока. Вот ты и поешь
все время.
– Не пою я, – бурчу в ответ.
– Ага, – подмигивает Тема. – Только что раздавал! А вчера что было? «Буханка идет по дороге, у нее три ноги…»
– Это не песня. Это наблюдение.
Они хохочут. Я краснею, но только чуть-чуть. Я привык. Эта такая старая игра, старая, как наш матрас. Каждый день кто-то из нас оказывается «приемным». Смысл в том, чтобы назвать другого приемным и тут же придумать объяснение. Однажды Савву мы обозвали бараньим сыном, потому что он ел траву, когда был маленький. На другой день Тема оказался родом из колодца, потому что постоянно все переспрашивает, как эхо. Сегодня моя очередь.
– Ты просто не похож на нас, – говорит Савва.
– В смысле? Мы же одинаковые.
– Ага, – хмыкает Тема. – Вот мы с Саввой нормальные, а ты музыкальный. Это очень подозрительно.
Внешне мы действительно похожи, как три капли воды. Волосы белые, особенно, когда на солнце выгорают, уши оттопыренные, подбородки с ямочками, носы, будто одним рубанком стесали. Глаза серые. Одинаковые руки, одинаковая кожа, загрубевшая на ладонях и ступнях. Даже шрамы почти в тех же местах. И на отца мы тоже похожи. В деревне это все знают. Иногда, когда мы идем вместе, кто-нибудь шутит:
– Вот идет Серафим, поделенный на три части.
И мы тоже смеемся. Никто не спутает, чьи мы дети. Но все равно: игра есть игра. Они смеются, толкают меня в плечо. Я делаю вид, что обиделся. Сажусь на корточки.
– Свой ты, свой, – приговаривает Савва. – А потерялся, потому что сам маленький, вот и все.
Я встаю и вытираю нос. Савва не злой. Он берет мой мешок и вешает на свою спину, чтобы я не нес тяжелое.
Тут Тема прислушивается:
– Слышите?..
– Что?
– Пока не знаю.
Мы все замираем. Где-то с той стороны слышен звук, как будто кто-то выругался и рухнул. Мы бежим напролом, по тропке, которая вовсе и не тропка. Бежим, и стебли цепляются за рубаху. Где-то сзади кто-то орет:
– Осторожно!..
Мы находим отца на земле. Он сидит, обхватив лодыжку, и лицо его белее белого. Он не кричит, но морщится, видно, что больно. Сильно. Отец злится на саму землю.
– Подвернул, – скрипит он, сквозь зубы. – Не наступить.
Мы не знаем, что делать. Савва берет флягу, которая уже почти пустая, подает отцу. Потом оглядывается на меня.
– Надо его везти, – говорит он.
Мы втроем пытаемся помочь. Подставляем плечо, руки, стараемся поднять, но отец тяжелый, как наковальня. Он пробует встать самостоятельно, но нога подворачивается снова, и он шипит. Потом кивает: это значит подогнать телегу ближе. Мы втроем тащим за поводья Зорьку, она ерзает, мотает головой, умирается. Не любит, когда ее двигают без команды, а команды принимает только от отца.
Мы подвозим телегу как можно ближе. Впереди самое сложное – вторая попытка поднять отца. Он не говорит «помогите», не делает замечаний, просто наблюдает. Мы толкаем, тянем, подпираем. Отец морщится, но держится. Савва подставляет плечо, и отец с трудом садится на телегу, тяжело дышит. Мы тоже пыхтим, а потом смеемся. Просто так, от облегчения. Савва влезает на передок и берет вожжи. Он ни разу сам не управлял. Я вижу, как у него дрожат пальцы, но он не подает виду.
Смотрит на отца: «Можно?»
Отец кивает, мол: «Трогай».
Савва щелкает языком, повторяет за отцом. Зорька фыркает и начинает медленно шагать. Мы вновь трясемся на кочках, держимся. У меня болит все тело, но мне совсем не страшно. Позади остается кукурузное поле, впереди расстилается дорога, пыльная, долгая. Мы едем. Все четверо. А впереди – Савва. Он теперь ведет.
Телега гремит, покачивается. Зорька ступает капризно, будто с каждым шагом думает: «А надо ли мне все это?» Солнце клонится к западу, небо становится золотым, почти медным. Савва вцепился в вожжи двумя руками. Он сидит прямо, не вертится, не дергается, будто теперь всамделишный кучер. Отец долго смотрит на Савву, не просто глядит, а вглядывается, взвешивает – готов тот или не готов.
Савва поворачивает голову:
– Все нормально?
Отец молча кивает. Он молчит, как человек, у которого в горле застряла похвала.
Мы катимся. Пыль, золотая, с красноватым отливом, поднимается от колес и зависает облаками. Пахнет выжженной травой, горячим деревом, лошадью. Время замирает. Но Зорька вдруг резко взбрыкивает, мотает головой и встает почти на дыбы, словно весь мир ее сегодня раздражает, и особенно мы. Телега наклоняется опасно вбок, колеса скрипят. Тема хватается за край, чтобы не свалиться, а я чуть не падаю со скамейки. Савва дергает вожжи, но лошадь не реагирует. Отец сжимает зубы, видно, как виске пульсирует жилка. Он не может встать, не может помочь, только взгляд быстрый, острый, как у раненого хищника. Отец пытается что-то сказать, не может. Мы все стараемся не рассыпаться.
– Спокойно! – кричит Савва. – Спокойно, старая!
Зорька словно что-то учуяла, или устала, или разозлилась. Она храпит, дергает головой. Телега подо мною дрожит, если бы весь мир распадался на части. Не знаю, почему, но я пою. Сначала тихо, потом чуть громче. Голос хрипит, в глотке пересохло. Я пою, как умею. Слова сочиняю на ходу, как всегда. Главное отыскать нужный ритм, чтобы бился в унисон с Зорькиным сердцем.
«Зорька, Зорька, не шали,
Мы почти уже пришли.
Вон за перелеском – дом,
Скоро мама с молоком.
Тихо, милая, ступай,
Нам не в поле – нам в сарай».
Сперва Зорька меня игнорирует, потом уши ее разворачиваются назад. Она делает неуверенный, осторожный шаг, потом еще один. Савва держит вожжи до побелевших пальцев, а я пою. Колеса катятся мягче. Мы едем медленно, но по прямой. Отец молчит. Я краем глаза отмечаю, как он смотрит на меня. Не как раньше: в ожидании, что я вот-вот заплачу или помешаю делу, а я тоже часть команды.
Он говорит:
– Пой. Только тихо.
И я пою.
И Зорька идет.
И телега гремит.
И Савва уже держит поводья уверенно.
А отец смотрит на нас троих с ноткой облегчения – мы не пропадем, не все держится на нем одном.
Я не замолкаю до самого дома. Пою про дорогу, жару, поле, что телега наша как корабль. Пейзаж вокруг – сплошные тени деревьев, вытянувшиеся в сторону горизонта. Сухие колючки, травы, как проволока. Над нами летают черные птицы, которые всегда появляются под вечер. Где-то по бокам пролетает саранча. Мы доезжаем до фермы, когда небо становится темно-синим. Зорька тяжело ступает, Савва натягивает вожжи. Отец молчит, но, когда мы спрыгиваем с телеги, он на мгновенье кладет руку Савве на плечо. Кладет и не убирает сразу. Савва даже не дышит. Я стою рядом, чувствую себя другим. Оказывается, иногда петь можно, особенно если тебя слушают.
Глава 4 Стул, тень и птица
Отец теперь все время сидит. Дома, на крыльце, на улице. Он бы и рад не сидеть, но нога все еще болит и не позволяет особо шевелиться. На первое утро после возвращения с кукурузы отец поднялся как обычно, ни свет, ни заря, сделал, должно быть, один шаг и сразу зашипел. Мы слышали, от этого и проснулись. Отец зашипел, – и тишина. Скрипнула кровать в спальне родителей. Сел. В этот момент ферма замерла, сломалась, как часовой механизм, в который попал камешек. Если отец не двигается, ничего в хозяйстве не двигается.
Каждый день теперь начинается со стула. Отец не встает, будто врос в землю. Раньше он был высоким, словно дерево, а теперь превратился в корягу, а мы вокруг него суетимся как муравьи. У ног отца лежит костыль, он его сам вырезал из старой доски. Никому не позволил помогать, даже нож не дал подержать, а нож у него красивый, охотничий, с белой костяной ручкой. Если у тебя свой собственный нож, то ты уже совершенно точно настоящий мужчина. Наверное, однажды и у меня свой будет. Иногда мы с Саввой и Темой лежим и представляем, какие бы ножи себе выбрали. Мне хочется небольшой, чтобы по дереву строгать или веревку перерезать, животных я убивать не хочу. Савва смеется, говорит, что если никого не убивать, то и нож мне не нужен, кухонного достаточно, чтобы я хлеб резал. Но у Саввы своего ножа нет, он тоже еще ни разу никого не убил.
Костыль отец строгал долго, сосредоточенно, поджав губы, он мастерил не обычную третью опору, а дополнительную ногу, пока прежняя неисправна. Костыль вышел неровным, тяжелым, с узлом посередине, но отец не стал исправлять. С тех пор опирается на него, как на товарища, как на память о том, что всякое случается.
Ферма замерла ненадолго, надолго нельзя, иначе погибнет. Теперь мы работаем иначе. Савва учится управляться с коровами. Прежде отец сам пас крупную скотину, особенно быка по кличке Кремень. Кремень, потому что он из одних мышц состоит, огромный как гора. Когда Савва впервые попытался того в загон отправить, Кремень даже не шелохнулся, вообще делал вид, что Савву не видит. Может, правда не видел, такие мы для него мелкие. Савва долго старался, голос посадил, пока на быка орал. Что толку орать, если отцу на скотину посмотреть строго достаточно, та сразу слушается? Не привыкли животные к голосу. Савва потом сдался и понуро наблюдал, как отец, сидя, за несколько секунд загнал Кремня на место.
Да, отец все время и везде сидит. В этом Темина работа заключается – он носит стул. Это не шутка такая, а важное дело. Утром, когда отец выходит из дома, Артем уже рядом. Он знает, куда тот пойдет, еще до того, как отец кивнет. Ставит стул, уходит в тень. Ни звука. Ни жеста. Иногда он не дожидается кивка, просто угадывает. Тогда все идет гладко. Однажды Артем не угадал. Отец с костылем вышел из сарая, остановился, посмотрел, Темы нет нигде. Отец нахмурился, шагнул, побледнел. Сам присел кое-как на бочку. Артем прибежал поздно, красный от стыда и зноя. Ночью потом не спал, орудовал гвоздодером, молотком, стучал и пилил. К утру Тема смастерил настоящий складной стул, немного шатающийся (он не рассчитал длину ножек до миллиметра), но надежный. Артем – поставил. Отец посмотрел. Сел. Кивнул. Дважды! Это он так принял, похвалил и простил промах.
О проекте
О подписке