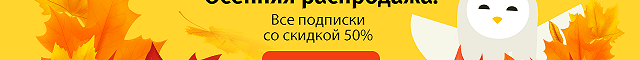
Я ждала в приемной. Уже здесь у меня сжалось сердце от тяжкого предчувствия. Опять эти унылые стены в деревянных панелях, хорошо знакомые мне, эти стандартные казенные ковры, которыми устланы все коридоры в Кремле. Эти зеленые суконные скатерти на пустых столах…
Почему я здесь опять? Зачем? Как тоскливо это ожидание! Каким холодом веет от этих стен, от этих старых сводчатых потолков! Постукивают стрелки электрических часов на стене – такие же часы были в каждой комнате нашей казенной квартиры там, внизу, и так же постукивали. Как я отвыкла от унылых кремлевских интерьеров за эти годы обычной жизни…
Косыгина я никогда не видела раньше и не говорила с ним. Его лицо не внушает оптимизма. Он встал, подал мне вялую, влажную руку и немного скривил рот вместо улыбки. Ему было трудно начать, а я вообще не представляла себе, как этот человек говорит.
– Ну, как вы живете? – наконец мучительно начал он. – Как у вас материально?
– Спасибо, у меня все есть, – сказала я, – все хорошо.
– Вы работаете?
– Нет, сейчас я дома: дети, семья. Иногда делаю переводы, но редко.
– Почему вы ушли с работы, где были раньше?
– Я ушла по состоянию здоровья, и некому было помочь дома с детьми. Я считала, что для меня дом и дети важнее, у нас ведь есть пенсия…
– Я понимаю: вам было в то время трудно в коллективе. Это понятно. Но мы не собираемся продолжать гнилую линию Хрущева в этом вопросе! Мы собираемся принять кое-какие решения. И вам нужно снова войти в коллектив, занять должное место в коллективе. Мы вам поможем, если что…
– Да нет, я не потому ушла. Ко мне всегда очень хорошо относились, – начала было я, но вдруг мне стало так скучно говорить или что-то доказывать. Значит, он считает, что меня «угнетали» после ХХ-го съезда. Бесполезно объяснять ему, что мне последние годы стало легче жить, чем раньше.
– Нет, ко мне все очень хорошо относились, – повторила я, – а сейчас я не работаю просто оттого, что много дел дома, и мой муж очень больной человек.
При слове «муж» премьера как бы ударило током, и он вдруг заговорил легко и свободно, с естественным негодованием:
– Что вы надумали? Вы, молодая, здоровая женщина, спортсменка, неужели вы не могли себе найти здесь, понимаете ли, здорового молодого человека? Зачем вам этот старый, больной индус? Нет, мы все решительно против, решительно против!
Я сначала оторопела и не могла не только отвечать, но даже связно думать. Все против. Кто – ВСЕ – против?
– Позвольте, но как же, – начала я, – что значит «против»? Ведь я знаю, что это не вызывало никаких возражений… (Господи, я же забыла, что премьер у нас теперь другой, и все другое, и «линия» другая…) – Больной человек приехал сюда работать ради меня. Что ж, ему ехать обратно? – сказала я, желая сейчас лишь предусмотреть все неожиданности.
– Ну, нет, это было бы нетактично, – молвил премьер. – Но мы вам не советуем регистрировать ваш брак. Не советуем. И не разрешим. Ведь он тогда по закону сможет увезти вас в Индию? А это нищая, отсталая страна, я был там, видел. И потом, индусы плохо относятся к женщинам. Увезет вас и там бросит. У нас много таких случаев, уезжают, потом просятся обратно…
Что-то начало постепенно поворачиваться у меня внутри.
– Мы, во-первых, не собирались уезжать в Индию, – начала я, приходя в себя и начиная трезво соображать. – Он приехал работать здесь, в Москве. Но мы, конечно, хотели бы съездить, посмотреть Индию и другие страны.
Но премьеру было не до этих деталей. Он желал внушить мне свое:
– Оставьте вы это. Вам нужно работать, в коллектив возвращаться. Никто его не тронет, пусть работает, условия хорошие. Но вам это ни к чему.
– Теперь поздно, – сказала я резко. – Человек приехал, он живет у нас и будет жить с нами. Я его не оставлю. Он болен и приехал только ради меня. Это на моей ответственности.
– Ну, как знаете, – сказал премьер сухо. – Живите, как хотите. Но брак ваш регистрировать мы не дадим!
Прием был окончен, он встал, подал руку.
– Хорошо, – сказала я холодно. – Благодарю вас. До свидания.
У меня не было никакой поддержки в этом кабинете – бывшем официальном кабинете моего отца, известном всему миру. Эти стены давили меня со всех сторон. Даже в окна гляделся все тот же Арсенал, построенный Баженовым. Сколько лет он гляделся в мои окна, желтый с белым, с рядами медных пушек, окаймлявшими фасад, – и сколько лет я ничего больше не видела, кроме него да кремлевских сизых елок. Вон, глядится опять, все тени прошлого обступили меня, теснят, душат… Эти пустые коридоры, эти ковры, эти своды… Скорее, скорее выйти! Уйти скорее отсюда! Проклятый Кремль! Проклятая тюрьма! Нет от тебя спасения нигде, никогда, опять ты за мной, по пятам… Скорее домой, где живут нормальные люди, где ждут меня мои дети и бедный несчастливый, наивный человек.
По дороге домой я старалась успокоиться и сообразить, что же теперь делать? Мне нужно было купить пирожных, торт, конфет, так как этот день был, к несчастью, днем рождения моей Кати и Сингха, а они оба любили сладкое. Я выбирала пирожные в магазине, стараясь отделаться от мрачных кремлевских впечатлений, худшим из которых был сам премьер.
Сингх не мог поверить тому, что я ему рассказала.
– Но почему? Почему? – спрашивал он растерянно. Случилось нечто недоступное для психологии человека из свободного мира. Он просто не понимал. И я вдруг почувствовала твердость в этом добром, мягком человеке, когда он, покачав головой, сказал:
– Нет, мне не нравится эта жизнь как в казарме. И я не преступник. Я должен им объяснить.
Мы написали вместе в тот же день ответное письмо Косыгину. Сингх ожидал ответа, ждал, что с ним, 57-летним человеком, объяснятся по-человечески. Он не понимал, что как человек, как личность, он не существовал здесь.
Мы неожиданно столкнулись с государством. Медный Всадник, тяжело развернувшись, вдруг устремился на тихого человека в роговых очках, и не было спасения от тяжелых копыт.
Ответа на письмо Сингх не дождался. Медный Всадник не может спешиться и сесть рядом с человеком. Ему некогда. Он скачет дальше, сбивая с ног тех, кто подвернется на пути.
* * *
Сингх прожил в Москве всего лишь полтора года. Здоровье его ухудшалось с каждым днем. Этому содействовал и холодный московский климат. Но я думаю, что намного более разрушительным для него оказался политический климат нашей страны, повернувшей от хрущевской оттепели к похолоданию и заморозкам. Резко изменилась атмосфера в идеологических учреждениях, издательствах, литературных журналах, во всех тех кругах художественной, научной и политической интеллигенции, с которыми меня связывали образование и дружба.
В сентябре 1965 года арестом писателей А. Синявского и Ю. Даниэля открылась постыдная полоса незаконных репрессий, вызвавших волну протестов во всем мире. Сингх был потрясен жестокостью приговора: «Семь лет тюрьмы за книги?! За то, что писатель пишет книги?»
Когда я рассказывала ему о собраниях, проходивших у нас в Институте Мировой Литературы, где до суда присутствующие обязаны были осудить, приговорить своего бывшего сотрудника Андрея Синявского, еще не признавшего своей вины, где, по указу партийного начальства, фактически предрешался исход судебного дела, – Сингх только разводил руками и печально качал головой.
Он знал с моих слов, что в СССР существует обширная литература, которая не попадает в печать из-за цензуры, что многие пишут «в ящик». Знал, что и у меня есть рукопись – история моей семьи. Его мало интересовало, что там, в моих «20-ти письмах»; он знал мои мысли и убеждения и не вдавался в подробности. В ту зиму он посоветовал мне переслать рукопись в Индию с его старым другом, послом Каулем, что мы и сделали. В СССР можно было ожидать всего: обыска, конфискации книг, стоящих на полке, рукописей, найденных в столе… Все это бывало, все это было уже знакомо. Конфисковали подобным образом второй том романа В. Гроссмана «За правое дело», архив и роман А. Солженицына «В круге первом».
Кроме желания сохранить одну из копий рукописи я не думала тогда ни о чем. Посол Кауль увез рукопись в январе 1966 года, во время одной из своих поездок в Индию. Он казался мне тогда надежным другом, часто бывал у нас. Мы ходили в гости в посольство – мои дети, Сингх и я. Это была приятная отдушина для всех нас. Мы говорили по-английски, видели иностранные газеты и журналы. Кауль, как и его друг Мурад Галеб, посол ОАР, любили студенческие вечеринки у моих детей, слушали песни под гитару, танцевали со студентками. Кауля любила молодежь: он приезжал к нам на дачу с большой кастрюлей карри и риса, привозил джин и виски, пел русские песни.
Старые друзья Сингха – индийские коммунисты – отвернулись от него, как только узнали, что советское правительство недовольно им. Д-р Ахмад, Хаджра Бегам, Литто Гхош (вдова Аджоя Гхош) – все они постепенно исчезли. Генеральный секретарь КПИ, Ш. А. Данге, не раз приезжавший в Москву, не нашел времени, чтобы повидать Сингха, хотя тот пытался добиться встречи с ним. Динеш Сингх, с приходом к власти Индиры Ганди ставший государственным министром, перестал писать нам, хотя знал, что здоровье его дяди в опасности. Только брат его Суреш, постоянно живший в деревне Калаканкар, присылал письма каждую неделю.
А. И. Микоян, уже более не Президент СССР, был по-прежнему любезен, но уже не хотел «благословить» нас. Теперь он говорил мне: «Формальный брак не имеет значения для любви. Я сам прожил с женой 40 лет не регистрировавшись, и никто никогда не сказал мне, что наши пять сыновей – незаконные дети!»
Ах, бедный Микоян, о хитрости которого сложено столько анекдотов! Мы понимали, что он теперь уже не в силах помочь. Распространена шутка о долгой безоблачной карьере Микояна при разных режимах: Знаете, Микоян теперь пишет мемуары под заглавием: «От Ильича до Ильича[2] без инфаркта и паралича». Другой анекдот гласит, что «в России восстановили монархию Романовых, и когда сосланный Хрущев подал прошение царю, тот спросил у своего министра Микояна: „Что нам делать с Хрущевым?“ На что царский министр Микоян ответил: „Я никогда не слыхал, кто это такой!“»
Теперь Микоян предостерегал меня от «чрезмерной дружбы» с иностранными послами.
«Он ужасно напористый, этот Кауль, – говорил Микоян, – совсем не похож на индийца. Ты подальше, подальше от него!» В конце концов я перестала ходить к Микоянам, и даже его старшая невестка, моя давняя подруга, отвернулась от нас.
Советский Союз разделился на либералов и консерваторов – куда ни глянь, – и борьба этих двух направлений отражалась на всем. Сохранить прошлое или решительно отказаться от него? Продолжение линии 20-го съезда или возврат к «сталинизму»; курс на интернациональные связи или на замкнутый русский национализм; современное искусство и эксперимент или консервативная «классическая традиция»; свежий ветер времени, носителем которого всегда является молодежь, или тяжеловесный «ленинизм» старых партийцев – эти две противоположные тенденции сталкивались везде. Разногласие пронизывало семьи, вламывалось в многолетнюю дружбу, в личные отношения. Я назвала бы это борьбой партии Памяти с партией Надежды, пользуясь терминологией одной книги, прочитанной уже теперь, в США. Это термины Эмерсона, но они применимы к любой стране. Как нигде, они приложимы к советской России, ко всему, что происходит в огромной стране, официально руководимой одной партией. Но не верьте этому! В СССР сейчас во всем борются не на жизнь, а на смерть партия Памяти с партией Надежды, партия прошлого с партией будущего. Это столкновение особенно почувствовалось, когда новый режим Суслова – Косыгина захотел повернуть историю вспять и вернуться к прежним методам. Память толкала их к прошлому. Надежда заставляла всех сопротивляться во всем, где только возможно.
В издательстве Прогресс, где Сингх переводил английские тексты на хинди, тоже боролись эти две тенденции. Главным редактором английского отдела был В. Н. Павлов, бывший личный переводчик моего отца (переводивший в Тегеране, Ялте, Потсдаме, ведший переписку с Рузвельтом и Черчиллем во время войны). Редакторши обожали Сингха и хвалили его стиль на хинди – это были молодые выпускницы Университета. Старший же редактор отдела хинди, при Хрущеве переведенный в издательство из ЦК и уязвленный этим, жаловался, что Сингх «не выполняет норму» и плохо переводит.
Удивленный Сингх спрашивал: «Чей родной язык – хинди? Мой или его? Почему он меня поправляет?» Он не понимал, что от него хотели избавиться и что единственным способом для этого было доказать его непригодность как переводчика. Работа в издательстве была единственным формальным основанием его пребывания в Москве, и, лишившись этого основания, ему пришлось бы уехать обратно в Индию.
Если бы мы смогли зарегистрировать брак, то тогда закон охранял бы Сингха и его здоровье, для которого работа становилась все более непосильной. Но мы не могли этого сделать. И ему оставалось только работать через силу, даже когда он находился в больнице. Его любили и уважали, но он все время ощущал скрытое недоброжелательство начальства. В. Н. Павлов никак не мог смириться с мыслью о том, что переводчик Сингх мой муж, – как не мог он смириться со всем, что происходило в СССР после смерти моего отца, которого он боготворил.
Даже медицина не оставалась безучастной и объективной, хотя ей-то следовало быть вне партий. Вначале попытались запрятать Сингха в туберкулезную больницу. Я бросилась как тигрица защищать дитя, которое у меня отнимают.
В больницу я Сингха не отпустила. Нам пришлось потратить полтора месяца только, чтобы доказать поликлинике Интуриста всеми рентгенами и анализами, что диагноз неверен, что это лишь бронхоэктазия, что больной не нуждается в изоляции и может работать. Зачем было доказывать это, когда полтора года тому назад кунцевская больница подтвердила диагноз бронхоэктазии и лечила его от этой болезни? Но ведь то было при Хрущеве. А теперь надо было доказать все с самого начала – другим врачам, другой поликлинике, другому начальству. Мы сделали это, но на это ушло время и силы, которых оставалось мало.
За полтора года Сингх был еще три раза в кунцевской больнице. Там его знали, помнили и любили. Сестры и врачи приходили 9-го октября 1966 года в палату, чтобы поздравить нас: они знали, что мы встретились в этой больнице три года тому назад, и палата была полна цветов в этот день…
Я не могу жаловаться на преднамеренно неправильное лечение. Но при системе советского бесплатного медицинского обслуживания вы лишены возможности выбрать врача или сменить его, если он вам не нравится: вы приговорены к нему. Мне казалось, что лечение было слишком изнуряющим, что, принимая слишком много лекарств, больной отравлял себя, я видела, что человек слабел с каждым днем. А когда вышло из строя сердце, то уже ничего нельзя было сделать и оставалось только поддерживать сердце уколами и вливаниями.
Последние месяцы Сингха лечила красивая докторша, голубоглазая грузинка. Когда она входила в палату, он неизменно уверял ее: «Сегодня мне значительно лучше». Она немного говорила по-английски, от нее веяло приветливостью, она великолепно делала внутривенные вливания, сразу попадая в тонкую, слабую вену. Выйдя из палаты, она чуть не плача говорила мне, что положение безнадежное и что я должна быть готова ко всему каждый день. Когда наступал приступ сердечной слабости и астматической одышки, помогал только укол.
Эта прелестная, молодая женщина входила в палату к больным всегда с улыбкой, и никто не верил, что временами у нее обострялась язва желудка, что она переутомлена и ей некогда поесть.
«А сколько времени отнимают партийные собрания у нас, врачей, – говорила она, – сколько ненужной болтовни, бумаг, списков, отчетов! Нам надо лечить больных, лучше провести лишний час возле больного…»
Сингха навещали в больнице друзья из московских индийцев и два посла – Кауль и Мурад Галеб. Пропуск надо было каждый раз заказывать накануне. В проходной, у ворот, вахтеры с трудом разбирали фамилии иностранцев, приходивших навещать больных – иностранных коммунистов. Пропуска в Кремль давно отменили, но каждое учреждение сохранило за собой право на свои бюрократические установления. Для послов правила были еще более строгими, каждый раз требовалось специальное разрешение. Но они все-таки приезжали, и Шушу Галеб неизменно привозила Сингху его любимый «крем-карамель».
В больнице теперь были новые правила: всех иностранцев перевели на один этаж, чтобы изолировать от «отечественных» больных. Только выходившие гулять в сад могли перекинуться словом с русским. Это раздражало иностранцев, варившихся в собственном соку. Три года назад обстановка была куда проще. Тогда Сингх и я могли часами разговаривать в коридорах.
В середине октября 1966 года, находясь снова в больнице, Сингх вдруг сказал мне однажды, что ему бы «хотелось умереть в Индии», повидав хотя бы близких друзей… Он чувствовал, что его дни сочтены. Он устал от этих бесконечных лекарств, диеты, пропусков. Он любил готовить и теперь в больнице читал английскую поваренную книгу и выписывал рецепты. Он хотел жить, мы строили планы на будущее, стараясь убедить друг друга, что у нас впереди еще годы! Теперь он всерьез заговорил о том, что впереди не годы, а, может быть, лишь недели.
О проекте
О подписке