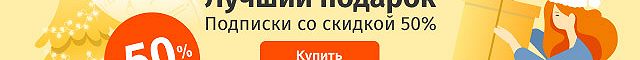
Тогда она развернулась на каблучках, показав ему делано удивленное лицо, и посмотрела в глаза долгим взглядом, потому что знала, что парни, которые пялятся на девушек, как пылесосы, и говорят сплошными многоточиями, не более опасны, чем ужи. Тупые, безопасные ужи, презрительно подумала она и от доброты душевной пощекотала взглядом ресницы юнца. Спасибо, ответила она и милостиво кивнула, элегантно наклонив голову и продемонстрировав, совсем как в кино, изящную шею, начинавшуюся примерно от талии. Потом присела на полку с едва слышным вздохом, который можно было трактовать абсолютно как угодно, не сводя прямого и не особенно уважительного взгляда с раскосых, пожиравших ее глаз юнца. Его взгляд постепенно затуманился, как потухший прожектор, безупречно ровный румянец накрыл его лицо носовым платком цвета свежего мяса. Она довольно вгляделась в белки его глаз, он стушевался, высвободил зажатую между ко-лен левую руку и уставился на стрелку часов.
Ирен решила, что он зануда, поэтому, когда он приготовился к новой атаке, она повернулась в профиль, красиво вырисовывающийся на фоне окна, лениво разглядывая мелькающие перед глазами столбы забора. Поезд, пыхтя, приближался к маленькому зданию вокзала маленькой метрополии, быстро сбросил скорость, забор постепенно отстал, уступив место отцепленным товарным вагонам на запасных путях. Она принялась подсчитывать появляющиеся в окне вагоны, но не потому, что они интересовали ее, а просто чтобы не думать – очень распространенная практика для пассажиров поездов. Но вот вагоны закончились, поезд, словно черепаха, полз под огромной крышей перрона, возвышавшейся слева и превращавшей все окна по левой стороне в зеркала. Молодой человек воспользовался моментом, уставился в зеркальную поверхность окна, пытаясь поймать ее взгляд, и в конце концов ему это удалось, потому что ей стало интересно, к тому же его отражение в мутной поверхности стекла казалось значительно смелее и опытнее. В какой-то момент она даже сочла его достойным противником, мужчиной, от которого стоит защищаться, но тут кто-то распахнул дверь в купе, и зеркало треснуло. Ей пришлось все-таки посмотреть на него, чтобы убедиться, что это он, – и это действительно был он, он, и никто другой, и она разочарованно закрыла глаза, а поезд медленно плыл вперед, все зеркала разбились, и она почувствовала, как по ней елозят его жадные взгляды.
Ирен предалась грезам, погружаясь в ручей воспоминаний о прошедшем дне. Что ж такое с Биллом, подумала она, а потом, разумеется, перескочила на Веру, потому что так усиленно пыталась засунуть воспоминание о Билле и Вере в мешок забвения, что думать о чем-то другом стало совсем тяжело. И тут все содержимое мешка вывалилось на пол, и это воспоминание оказалось на самой вершине кучи, от души хохоча. Она порылась в этой куче в поисках чего-то более приятного, но эта неприятная вещь все время попадалась ей под руку. Наконец она попыталась убежать от валяющегося на полу пустого мешка и пробить окно в другие миры, но мешок летел за ней, словно воздушный шарик, заползал в голову, лопался, и тогда она окончательно сдалась и дипломатично решила все-таки подумать о себе, Билле и Вере – подумать холодно и ясно, как есть, в точности как есть.
В закрытые веки постучали, и она сразу поняла, кто стучится, приоткрыла плотно закрытые двери самую малость, но потом приоткрыла еще сильнее, потому что внезапно поняла, что он может ей помочь. Улыбнулась ему такой беспомощной улыбкой, которая, как она давно знала, заставляет мужчин думать, что это мольба о помощи, а не флирт, и вскоре от него в ее сторону потекли тонкие ручейки сочувствия. Это сразу придало ей сил, как будто она выпила рюмку крепкого, и даже дало некоторое ощущение взятого реванша, постепенно тянувшееся вверх и раскрывавшееся, словно подсолнух, укоренявшееся в ней, когда она начинала думать о нем, сидевшем напротив, и о себе как о паре, представлять Билла пассивным зрителем, хмуро наблюдающим за ними из коридора статуей. Она стала так напряженно представлять себе Билла в виде статуи, что под конец смогла увидеть крупным планом искаженные гневом черты лица и покрытую пятнами ревности – а вовсе не голубиного помета – макушку.
Билл и Вера, снова подкралась к ней ненавистная мысль, но она уже не так обжигала и не так ранила, потому что теперь Ирен перестала хранить верность, потому что теперь и она изменила. Ревность отошла на задний план, уступив место головокружительному ощущению победы, которое почти всегда наступает, когда ревность побеждают собственной неверностью.
Молодому человеку казалось, что в ее глазах сияет целый многообещающий роман или как минимум новелла, его взгляд заволокло пеленой, как воды озера подергиваются первым льдом, и наконец он заговорил с ней, говорил много и так отчаянно пытался привязать ее к себе словами, что пропускал все точки и запятые, но вдруг вспомнил о существовании вопросительных знаков и резко притормозил, дожидаясь ее ответа. Она ответила не потому, что вопрос заинтересовал ее, а потому, что уговорила себя, что так связь между ними становится глубже и уже не такой невинной, и начала рассказывать о себе с некоторыми намеками, он представился, а ей так захотелось сделать их совместное пребывание еще более глубоким и рискованным, что она попросила его написать на листочке свое имя, номер и полк, и он заглотил наживку, прыгнул со скалы, как ныряльщик за жемчугом, и попросил у нее листочек. Жемчужина сама шла ему в руки, с превеликой охотой она поставила свою шикарную сумочку на колени, расстегнула молнию, и он тут же оказался рядом и залез туда неуклюжими намекающими руками, которые предприняли небольшую импровизированную и плохо скрываемую разведку боем в окрестностях сумки. Он попался, окончательно попался, подумала она и приняла решение по возможности тактично прервать исследовательский поход и дать ему бумагу и ручку. Коленями она ощутила, что предложение написать адрес прозвучало довольно грубовато, но ей хотелось оставить себе этот листочек, словно чек, подтверждающий, что между ними действительно что-то было, чек, который она смогла бы достать и предъявить самой себе и ему, когда ее снова одолеет обжигающее желание взять реванш. Но молодой человек, которого, как оказалось, звали Берндт Класон и который на самом деле имел вовсе не ограниченный допуск и имел право носить оружие, уже ощутил себя доктором Ливингстоном на пути к водопадам. А ей был так сильно нужен этот чек, что она очень удивилась, когда в поле зрения ее левого глаза вдруг возникли внушительных размеров ботинки с высоким голенищем, поверх которых возвышалось плотно набитое телом траурное пальто.
Ирен, милочка, произнесла Мария Сандстрём, словно ставя в конце фразы жирный восклицательный знак. Лицо у молодого человека вытянулось так, будто он жабу проглотил, он попытался предпринять медленное и незаметное отступление и выйти из компрометирующей ситуации. Ему показалось, что каждая рука весит килограммов по де-сять, и в мерцающем свете ламп отступление оказалось неуклюжим и очевидным. Мария Сандстрём пристально и безжалостно проследила за бегством вражеских сил, пока молодому человеку не удалось наконец добраться до нейтральной территории.
Тогда она обрушилась на полку рядом с Ирен, руки девушки тут же выскользнули из прохладной глубины сумки, она медленно покачала головой, словно стрелой подъемного крана, и впилась взглядом в лицо матери у самого основания выпуклого лба. Милочка, с показной ленцой повторила она, поставив между собой и матерью острый, словно ножницы, но маленький вопросительный знак.
Мария Сандстрём придвинулась поближе к дочери, заставляя ту отодвинуться к самому окну, заслонила весь мир своей огромной тенью, и Ирен постепенно побледнела, как анемон, попыталась оторвать взгляд от лба матери, но тот словно приклеился, и ей никак не удавалось освободиться. Мария Сандстрём выгрузила чуть вперед отечное тело, ее лицо, желтое и оплывшее, подползло к Ирен, и она открыла рот, чтобы произнести какие-то слова, но сначала изо рта вырвалось дыхание, проникло в нос к Ирен и заполнило собой всю ее без остатка. У девушки в горле что-то заклокотало, она прислонилась к спинке, охваченная внезапной сонной беспомощностью, все это время она понимала, что молодой человек вопросительно смотрит на нее, и его взгляд будто покусывал ее. Он не должен узнать об этом, подумала она и попыталась сосредоточиться, он не должен узнать, что она – моя, да, моя.
Ее охватил жгучий стыд, причем стыд двойной, как обоюдоострый меч, направленный и на мать, и на него. Он не должен узнать, снова застучало у нее в голове, пока она натачивала кинжал сопротивления и зажимала его зубами. Когда Мария Сандстрём наконец открыла рот и вместе со зловонным дыханием из ее рта потекли слова, Ирен отчаянно затошнило, и это придало ей сил для сопротивления, желания отделаться. Она бросилась взглядом прямо в глаза матери, во взгляде была невысказанная, дерзкая прямота, и она подумала: мне стыдиться нечего, я ничего плохого не сделала, ничего и не было, если ты об этом. Вот так, подумала она, так дерзко, к тому же она знала, что это правда, и стыд – или по крайней мере половина стыда – ослабил удушающую хватку, а рядом с оставшейся половиной уселось какое-то совершенно новое чувство: не просто сопротивление, а ненависть.
Она должна уйти, в запале думала она, поигрывая зажатым в зубах кинжалом, и тихая ненависть заполняла собой суставы, и чем больше она вспоминала, как все было раньше, тем более жгучей становилась ненависть, и она ненавидела, потому что ей было стыдно перед ним, потому что ей было ужасно противно, потому что она с поразительной ясностью понимала, что ничего не было, что она ни в чем не виновата и ей нечем ответить Биллу и Вере. И тут из дырявого мешка забытья повалила ревность, режа ее изнутри, она словно разоблачила саму себя, и, пока слова матери летали по комнате, словно вялые пули, застревая в окне и полках, Ирен отдалась бурлившим в ней чувствам, позволила им вывести себя на тонкую грань, где разум и расчетливость берут верх над болотом чувств, на секунду ощутила маленькую и совершенно безумную победу, преодолев эту границу, и подумала: Да мне вообще наплевать. Она наплевала и на то, что юнец понял, что эта старуха – ее мать, и на то, что вялые пули слов сплетничали о том, как она сбежала из дома, что она ведет себя не как приличные люди, что ее бы надо выпороть, что она последний стыд потеряла. Нет, ей не было дела до всех этих слов, ровным счетом никакого дела, но зато еще как было дело до той, кто их произносил, и она уверенно миновала границу, оставив ее далеко за собой, стала обжигающе холодной и четкой, поняла, что нужно делать. Когда молодой человек, поспешно и смущенно извиваясь, утек из купе и спрятался в туалете, она точно знала, что сделает это.
Нарочито неспешно встав, она помедлила, как тигр перед прыжком, упрямо не сводя с матери глаз, и вытянулась перед ней во весь рост – высокая и спокойная, засунула руки в карманы пальто – и тогда мать впервые по-настоящему увидела разделяющее их непреодолимое расстояние, капли слов падали все реже и реже, и наконец с потолка на купе опустилась тишина, осталось лишь монотонное протестующее гудение рельсов. Тогда Ирен выставила вперед ногу, перенесла на нее вес, уперлась руками в бока, четко и совершенно спокойно произнесла: уйдите!
Значит, я еще и «уйдите», сказала Мария Сандстрём и поднялась с полки, продолжая распространять вокруг себя зловоние, значит, моя родная дочь говорит мне «уйдите». Именно это я и говорю – уходите, повторила Ирен, и в ее голосе зазвенел металл, вам надо уйти. Всего вам наилучшего. Руки старухи взметнулись к горлу Ирен, но остановились у лацканов пальто, вцепились в них, сминая, и она прошипела, как злобная струйка пара: ты пожалеешь об этом, девчонка, пожалеешь, пожалеешь! Шлюха! А потом она толкнула Ирен так сильно, что та едва удержалась на ногах, с трудом развернулась и молча засеменила к двери.
Но в дверях, когда в купе ворвался стук колес, старуха почувствовала, как кто-то крепко схватил ее за плечо чуть повыше локтя, и обернулась: там стоял враг и смотрел на нее сверху вниз обезумевшими от ярости глазами. И только теперь ей стало немного страшно, и она умоляюще произнесла вполголоса: ну что ты, детка, но никто уже не слушал, Ирен вытолкала ее в тамбур, закрыла за ними дверь, покраснела, разгорячилась и заговорила резким и возбужденным, как у загнанного зверя, голосом. Как вы меня назвали, спросила она, крепко хватая ее за плечи. Как вы меня назвали?
Поезд разрезал низменности и возвышенности, справа проносились желтые насыпи. Потом начался лес, и солнце снова заблестело между стволами деревьев. Пустым взглядом она посмотрела матери через плечо, на деревья, почувствовала, как хватка становится крепче, хотя она как будто бы ничего не делала, и тут солнце ударило ей в глаза так, что пришлось зажмуриться. Поезд миновал лесную поляну, она услышала, как заржал пасшийся там большой черный конь, как конь побежал за поездом, и она посмотрела на забор, шедший вдоль железнодорожных путей, просто потому, что конь скакал вдоль забора, и, когда он стал отставать, Ирен перевела взгляд и увидела то, от чего внутри все содрогнулось. Она посмотрела на мать, многим позже она понимала, что этого бы никогда не случилось, если бы не ее рот, если бы не рот матери, который она увидела отвратительно крупным планом и который будет вспоминать еще долго – резиновая кожа, собранная складками вокруг беззубого рта, тонкие резинки губ, желеобразный язык, высунувшийся из норы – обнаживший себя и слово – слово, которое должно было стать ответом, сорвалось с покрытого слизью языка. И когда она услышала, что это было за слово, ее словно накрыло волной, руки потянулись вперед, бедра прижались к бедрам матери, и та сделала несколько быстрых шагов назад в сторону ворот, стала шарить руками за спиной, чтобы ухватиться за поручни, чтобы удержать свое падающее тело, но ворот там не было, и она успела только в ужасе обернуться, а потом, раскинув руки, полетела под откос. Ее ноги на долю секунды зависли над платформой, но потом с плохо скрываемым удивлением медленно полетели туда же, куда и тело, и постепенно, как будто по частям, откос поглотил ее, а стопы все еще упрямо цеплялись за подножку, но вскоре и их скинуло с поезда, когда вагон слегка покачнулся на повороте.
Затем поезд вырвался на равнину, и какой-то молодой человек, шедший с косой и хлеставший оленя, остановился, отставил в сторону косу и помахал ей пестрым шейным платком в пятнах от нюхательного табака. Ирен видела его, она видела всю равнину с буйно цветущими полями клевера и ленивыми коровами, с красным домиком и поблескивающей окнами верандой, с потрескавшейся трубой, она смотрела на все это пустым, мертвым взглядом, и вдруг ее затошнило, она дернула на себя дверь и зашла в вагон, слегка пошатываясь и еле держась на ногах. Юнец сидел к дверям спиной и не обернулся, когда она вошла, за что она испытала к нему огромную благодарность. Ирен прикрыла за собой дверь туалета, дрожащими руками заперлась. Открыла кран, достала носовой платок, намочила его и обтерла пылающее лицо. Ей сразу стало прохладнее, во взгляде появился ледяной холод, она попробовала взглянуть в зеркало и медленно, убедительно сказала самой себе: спокойствие, спокойствие, спокойствие, и впрямь тут же ощутила какое-то спокойное безразличие, достала из кармана пудреницу и припудрила блестящие участки лица.
Убрала пудреницу в карман, залезла в сумку, нащупала рукой записку с указаниями, достала ее, прочитала, на каком автобусе ехать от станции, где выходить, как дойти до домика и где что лежит. Прочитала спокойно, с вялым интересом, посмотрела на часы, поняла, что скоро выходить, взяла сумку и вышла на платформу, не переставая думать, что все это ей, должно быть, приснилось. Потом пришел кондуктор, прокомпостировал ее билет и закрыл ворота, а она все это время не переставала думать, что ей это, должно быть, приснилось, и потом, когда поезд сбавил ход и остановился, когда она сошла на перрон, она не переставала думать, что ей это, должно быть, приснилось. Но, проходя мимо следующего вагона, она увидела в грязном окне пухлое лицо Агды Морин, которая пялилась на нее, и только тогда поняла, что нет, не приснилось, и, идя к выходу, она чувствовала, как старуха свер-лит взглядом ее спину, пыталась идти ровно и уверенно, хотя понимала, что ей это все не приснилось; цокая каблучками, прошла через зал ожидания, буравивший ее взгляд потерял остроту, и тогда она усиленно и с лихорадочным упрямством начала думать о чем-то другом. Пока она шла по раскаленной от зноя дороге к площади, где стоял автобус, пыхтевший, как котел на очаге, то тоже думала о чем-то другом. Все это время она думала о чем-то другом, все время повторяла про себя все, что ей нужно сделать, словно ныряльщик, все глубже и глубже погружающийся в толщу океана.
6
В воздухе стояло гудение. Деревья шелестели на ветру, стало прохладнее. В вазе утонула муха. Усевшись на сливочник, жужжал шмель. Неспешно тикали настенные часы, показывая половину третьего. Сквозь листву сирени просачивались солнечные лучи. Открытое окно поскрипывало петлями. На кухонном столе стояли чистые чашки и стопка чистых тарелок. На тарелке лежал нарезанный кекс. На конфорке свистел кофейник.
Билл встал и несколько неуверенно подошел к закрытой двери, подошел вплотную и встал у самого косяка. Из дома доносились негромкие голоса, похожие на тихое гудение. Он изо всех сил напряг слух, но из-за двери слышалось только гудение, иногда заострявшееся, словно звуковое копье, и тыкавшее его прямо в ухо, и он осторожно ретировался обратно. Под пробковым ковриком что-то едва слышно хрустнуло, но в относительной тишине звук прогремел выстрелом маузера – ладно хоть никого не убило и не ранило.
О проекте
О подписке
Другие проекты