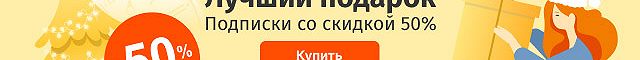
Ирен
1
Стояла такая жара, что на железнодорожных рельсах впору было кофе обжаривать. Между шпалами остро поблескивали камни, а по ту сторону колеи уныло колосилось поле созревающего овса. За полем жались друг к другу красные деревенские домики, посреди хутора торчала острая зубочистка флагштока. Здание вокзала походило на великана, прилегшего поспать на равнине, над посыпанной гравием площадкой поднимались небольшие струйки пыли. Далеко-далеко из бескрайнего моря зелени к станции приближался поезд. Из трубы локомотива струился дым, расплываясь над колеей похожими на шляпки грибов облаками. Был почти час, поезд словно толкнули в бок, и он понесся к дремлющему поселку.
На скамейке перед домом сидели две старушки, напоминавшие рассевшихся на проводах воробьев. Одна из них одноглазо щурилась на солнце и грела бородавки. Другая с любопытством озиралась по сторонам, быстро водя крысиными глазками туда-сюда и тут же замечая все интересное, что происходит в округе. На бетонном перроне стоял одинокий чемоданчик с блестящими застежками. У чемоданчика была гигантская кожаная ручка, и, что куда менее примечательно, на привязанной к ручке веревке болтался безжизненный букет ноготков.
Прям как повешенный, подумала старушка с крысиными глазками и ткнула товарку в бок. Ох и жара в этом году, сказала она, сделав несколько крупных планов лица соседки. Сейчас лицо оказалось в тени полей шляпы. Глаза беспомощно моргали, а зрачки пытались перестроиться на полумрак. Веки натянулись, словно кожа на барабане, в уголке одного глаза появилась слезинка, стекла по носу, оставив влажный след на паре бородавок, и постепенно влилась в струйку слюны, вытекающую из уголка рта. Губы приоткрылись, где-то во рту подрагивал похожий на змеиную голову язык. Что ж, отозвалась она, самое время для большой стирки.
Хи-хи, прыснула крысоглазая и надула щеки. Хи-хи, вот ведь люди, только о стирке-то и думают. И сделала еще один крупный план нижней части лица второй старушки. Стало так тихо, что было слышно, как вошь пробирается по волосяным джунглям, и вдруг эту тишину, словно бритвой, рассекло появление поезда.
Подруги поднялись со скамейки, скрипнула дверь сортира, под чьими-то шагами зашуршал гравий. Старушка стрельнула крысиными глазками, но тут же отвела взгляд, а та, что потолще, с бельем, направила свои красные прожекторы сначала на источник звука, потом обратно на спутницу и заявила: доча-то едет небось, и медленно двинулась в сторону поезда. Ее собеседница подняла с земли пыльные сумки и зашаркала за ней, как будто шла на лыжах. Тихими мышками они проскользнули в поезд и тут же спрятались в одном из тускло освещенных купе. Кроме них, там по-чти никого не было – только в углу сидел какой-то толстяк, прилипнув спиной к стене, с его лица градом лил пот, так что подушка намокла. В поезде стояла духота, но все окна были наглухо закрыты, а между стеклами, тщетно пытаясь найти путь на свободу, бились мухи. Присядем-ка, сказала толстуха с бородавками, которая вдруг стала за главную, и широким жестом показала на диван, приглашая подругу сесть. Та забилась в угол к окошку и сняла шляпу с таким облегчением, будто сорвала с головы терновый венок. Толстуха принялась расшнуровывать ботинки, чтобы дать отдых опухшим щиколоткам, напоминавшим тесто, поднимающееся за бортики корыта. Кто-то приоткрыл дверь купе, сквозь щель откуда-то из леса донеслись выстрелы, но тут же навстречу бурной рекой хлынул встречный поезд, и капли тихих звуков утонули в мощном потоке. Поезд тронулся. Значит, доча-то здесь, сказала толстуха, вбивая клин в вязкую тишину, где она будет ждать? Из слегка приоткрытого окна тянуло сквозняком. Тонкая струя воздуха брызнула ей прямо в лицо. Не то, подумала она, не то. В этот момент у нее дома кто-то на втором этаже закрыл окно. Над равниной проплыла церковь, за ней – ряды строительных лесов, и поезд въехал в прохладный тоннель леса. Потный господин у окна положил на лицо носовой платок. Ткань тут же впитала влагу, словно промокашка, и облепила черты лица посмертной маской. Не то, не то. Да, Ирен, сказала Мария Сандстрём, чувствуя, как терновый венец давит на голо-ву, хотя шляпа осталась лежать на полке, и ее прошиб пот.
2
Когда она проснулась, одуряющая жара уже заползла в барак, простыня превратилась во влажный купальный костюм и облепила тело, а одеяло сползло на пол. Зеленые занавески закрывали открытые окна и пытались противостоять солнечному свету, но не жаре. В комнате царил торжественный полумрак – совсем как в церкви, мелькнула у нее в голове сонная утренняя мысль, и девушка начала вылезать из простыни. Так обычно вылезают из ванны: сначала выпростала ноги и пошевелила пальцами, будто помахав рукой самой себе. Простыня сползла еще сильнее, обнажив не успевшие загореть, белые, как восковые свечи, ноги, при взгляде на которые она снова подумала о церкви. Согнув колени, она натянула простыню словно мост над верхней половиной тела и на минутку замерла – в кровь, подобно алкоголю, хлынуло ощущение усыпляющего, обездвиживающего покоя и умиротворения. Наконец-то она осталась одна, рядом не было даже заведующей хозчастью, которая во всех прочих случаях крутилась где-то неподалеку, как назойливая муха или комар. О да, теперь она совсем одна. Остальные семь кроватей зияли отсутствием, словно пустые мешки, распространяя по комнате сладковатый запах. На спинках кроватей сохли ночные сорочки и влажные одеяла, а около двери красовался принадлежавший заведующей халат в крупный цветок, таких же внушительных размеров, как и его хозяйка.
Чертова старуха, думала девушка, с наслаждением нежась в кровати. Занавески пританцовывали на легком, свежем ветерке, а за окном ее ждал долгий, замечательный выходной день. Она терпеливо дождалась, пока простыня сама соскользнет на пол, и еще немного полежала обнаженной, глядя в потолок. Мысленно прошлась по улице грядущего дня мимо всех предстоящих дел, как ходят по уличному рынку, где с обеих сторон прохожего зазывают яркие прилавки. Значит так, думала она, сначала приберусь в бараке, потом застелю постель и схожу на кухню позавтракать. Потом переоденусь, пойду домой и навещу своих. Как всегда, зайду на кухню и сделаю вид, что все как обычно. Здравствуйте, папа и мама, скажу я, давненько мы не виделись, а у вас тут ничего не изменилось. У меня выходной, вот я и решила ненадолго заглянуть к вам. Так-то я вся в заботах, и присесть некогда. Триста человек в казармах, дел вечно невпроворот. Ну и потом они, наверное, тоже что-нибудь скажут, может, спросят, как у нее дела, а она ответит, что вполне сносно, не как дома, конечно, бараки – что с них возьмешь, голые стены, железные койки. Но вполне сносно, скажет она, и сделает вид, что все в порядке. Потом они спросят, как так вышло, что в один прекрасный день она ушла и больше не вернулась домой. И вот тогда она ответит – конечно же, ни в коем случае не извиняющимся тоном! – что ну да, мол, сглупила… хотя нет – перенервничала, вот как она скажет, так звучит намного лучше, и да, ей было тяжеловато, скажет она, бывает такое у людей, уж мама-то должна понять. Да, а по-том все само собой и наладилось, надо было просто немножко себя расшевелить. И все снова будет хорошо. Абсолютно все.
Повернувшись на бок, она приподняла матрас и прижалась лбом к днищу кровати – холодному как лед, хотя в бараке было очень душно. Сейчас еще немножко полежу, совсем немножко, вкушу сладость ничегонеделания. А потом встану и сделаю все, как задумала. Именно так. И никак иначе. В точности так. Ничто не должно помешать. Ничто. Лежа, она как будто бы впечатывала планы в мозг, и обжигающий холод койки проникал в тело как спокойная, холодная уверенность.
Снаружи вдруг раздались шаги – быстрые, уверенные шаги по усыпанной хвоей земле, железные набойки застучали о камни, и она поняла, что первый завтрак закончился. Три сотни мужчин вот-вот повалят из столовой, разбредутся по баракам, начнут собираться в отряды и группы, бегать по лесу, прятаться за пнями или неподвижно валяться, совсем как она сейчас, только не в кровати, а на стрельбище. Но нет, шаги оказались одинокими, направились прямо к ее бараку, не раздумывая, подошли прямо к ее окну, и она сразу поняла, кто это.
Билл, подумала она, вот ведь дьявол, нет не встану, пусть стоит там, сколько ему влезет, пусть свистит, болтает чушь всякую, зовет выйти, а я не встану. Она осталась лежать на кровати, совершенно неподвижная и совершенно голая, и звук шагов затих. Он здесь, думала она, стоит под окнами, но ничего не говорит, просто стоит и молчит. Приподняв голову, она прислушалась, и пружины койки слегка скрипнули. Теперь он поймет, что я здесь, сердито подумала она и прислушалась еще внимательней.
Ей даже показалось, что она слышит дыхание, касающееся гардин, словно ветер, – дыхание, горячее дыхание коснулось ее лица, и вдруг кто-то стал дышать ей прямо в ухо, шептать горячие слова, как будто стены между ними и вовсе не было, как будто стоявший на улице мужчина оказался в самом бараке, совсем рядом с ней, лег к ней на койку и принялся дышать ей в ухо. В висках застучало, закружилась голова, девушку захлестнуло волной жаркого беспокойства. Выйду и посмотрю, он это или нет, но обещать ему ничего не буду, вот совсем ничегошеньки, в голове был сплошной сумбур и бессмыслица. Она приподнялась на локте, совершенно забыв, что голая, вздрогнула, схватила с пола простыню и накинула на плечи, словно шаль. Влаж-ная ткань приятно охладила ее пыл, ей почти удалось остыть, и, немного помедлив, девушка протянула руку к зеленой занавеске и отдернула ее.
Да, вон он, стоит на солнце среди сосен, а солнце-то светит так ослепительно, что его не сразу и разглядишь. Девушка зажмурилась, чувствуя, как в нее проникает тепло, а потом открыла глаза – и вот он стоит уже совсем рядом с ней и улыбается. Улыбается своей фирменной кривой улыбочкой, сверкая желтоватыми зубами, губы потрескались, а из угла рта почти вертикально свисает недокуренная сигарета. Челка падает на один глаз, форменная фуражка заткнута за ремень, словно трофейный скальп у индейца. Сделав вид, что ему все равно, отходит назад, щурится и произносит, не доставая сигареты изо рта: слушай, тут такое дело. Я тут кой-чё придумал. Типа вообще сам, понимаешь. Смотрит на нее с прищуром, будто даже не на нее, а сквозь нее, и спрашивает: того, огоньку не найдется? Она встает с кровати, простыня сползает на пол, оголяя плечи, и ему даже удается мель-ком увидеть ее грудь, потом подходит к окну, плотно завернувшись в простыню, и кидает ему коробок спичек. И что ж придумал, спрашивает она, как будто нехотя, как будто ей вообще все равно, чё такое-то?
Ну тут такое дело, отвечает он, прикрывая сигарету ладонью и прикуривая, у нас вечерок намечается, отметить хотим. А что отмечаете-то, спрашивает она, и ей уже явно не все равно. Вот день рожденья, например, говорит он и бросает коробок спичек куда-то за нее. Например, мой день рожденья. Вот как, говорит она, ну здорово. Скажи, продолжает он, зашибись как здорово. А знаешь еще что здорово, что ты тоже приглашена, вот что зашибись как здорово. Ах я приглашена, говорит она и готова уже практически на все. И где собираешься отмечать, спрашивает она. Да есть тут один домишко, у озера Эльвшё. Нас будет пара-тройка человек, дом папаши одного из моих корешей, он там за главного, если старика дома нет. Ну да, ну да, говорит она.
И вот я тут подумал, говорит он и подходит к ней довольно близко, насколько позволяет разделяющая их стена, подумал, что, может, ты поедешь вперед вечерком, поляну накроешь чуток? Вот как ты, значит, подумал, фыркает она, а если я не хочу? Если мне это до фени? Она слегка отодвинулась назад, чтобы оказаться подальше от него, но он вынул сигарету изо рта, бросил на землю, без тени улыбки посмотрел ей прямо в глаза, и она снова придвинулась к окну, пытаясь смотреть на него где-то в районе третьей пуговицы. Его рука внезапно дергается вниз к ремню, потом снова вверх, но в ней уже что-то есть, потом поднимается, что-то со свистом разрезает воздух, а когда она поднимает глаза, в подоконнике между ними торчит штык.
Хочешь-хочешь, произносит он с улыбкой, с вечной своей кривой улыбочкой. Штык подрагивает, как только что вонзившееся в землю копье, она видит острое лезвие, блестящее от ружейного масла. Ее взгляд минует штык, она видит мужчину, стоящего за лезвием, и внезапно все становится, как уже было совсем недавно. Жар, головокружение, столько кро-ви приливает к одному-единственному месту. Не говоря ни слова, она отпускает простыню и стоит у окна голая. Склоняет отяжелевшую голову к мужчине, не обращая внимания на штык, и он с дикой силой впивается в ее губы, и пока они целуются, штык падает на подоконник и оцарапывает ей запястье, как будто ее кусают дважды одновременно: в губы, и вот еще в руку. Он отпускает ее, она оседает на кровать, он забирает окровавленный штык и спокойнехонько убирает его в ножны. Перед тем, как уйти, перегибается через подоконник и шепчет: у кафе в двенадцать. Она беспомощно кивает, и он уходит уверенными, быстрыми шагами в сторону плаца. В этот момент она как будто ненавидит его. И тут начинается новый день: три сотни или двести девяносто девять человек вываливают из столовой, кто-то орет «построение!», раздается шуршание – у ружей проверяют предохранители. Тогда она встает с кровати и начинает одевать голое тело, понимая, что день ей предстоит совсем не такой, как она предполагала.
3
Солнце выкатывается из-за облаков, на затылок и спину ложится обжигающий зной. Вся вырубка безжалостно залита светом, и Билл сжимается до предела, стараясь поместиться в тени валуна. Со лба градом катится пот, он снимает шапку и кладет ее на камень. Потом медленно, словно рысь, поднимает голову, пока глаза не упираются в метку, вбитую прямо в камень. Взгляд скользит по плавно спускающемуся к железной дороге голому склону. Куда ни глянь, повсюду пни, словно бородавки на коже земли, а между бородавками ютятся камни, да так равномерно, будто ряды надгробий на кладбище. Камни достаточно велики, чтобы за ними можно было спрятаться, за каждым солдат, уже похороненный, а самым похороненным выглядит сержант, лежит и позирует в яме за одним из камней на первой линии.
Солнечный свет льется на землю горячим дождем, и когда Билл хватает ружье за дуло, обжигается и от неожиданности роняет оружие на землю. Потом встает на колени, прижимает приклад к щеке, прищуривает левый глаз и прицеливается, стараясь делать так, как написано в инструкции для солдат: чтобы мушка была посредине прицела, дальше легкое нажатие на курок, чтобы выровняться, потом подвести мушку к точке прицеливания, или как там было написано. Дуло медленно гуляет туда-сюда по рядам, и он думает, что все прямо как в театре: садишься на свое место, берешь театральный бинокль и пытаешься разгля-деть актеров на пустой сцене. Дочерна выжженная, мрачная земля качается перед глазами, и только он находит камень, по которому было бы удобно пальнуть, как обнаруживает, что сцена-то не пустая. Линия, идущая от зрачка через прицел, а потом храбрым прыжком достигающая противоположной стороны склона, вдруг упирается в чей-то плоский затылок, и он сразу понимает, что это сержант, и палец как-то сам находит спусковую скобу, а оттуда переползает на крючок. Он думает: если мысли можно передавать на расстоянии, то сержант Буман должен почувствовать жгучий укол в затылке и обернуться, и если бы винтовка не была заряжена холостыми, и если бы я нажал на курок, то пуля попала бы ему прямо в челюсть, и он бы рухнул на колени, и из дыры под зубами хлынула бы кровь, и у него бы как будто появился еще один удивленно округлившийся рот.
Но затылок сержанта Бумана не шелохнется, не сдвинется с места – затылок пялится на него из-под фуражки, как дурацкая муха, да и вообще, вся его фигура там внизу, за камнем, сплошная глупость и недоразумение.
Был бы он врагом, думает он, не скрывая ненависти и пару раз слегка прижимая курок, но у сержанта на левой руке нет белой повязки, а значит, он – не из стана врага. Совсем наоборот, он – командир группы, которая уже полчаса лежит под палящим солнцем и пытается выманить группу «Свенссон», которая по условиям учений должна перейти в наступление в лесу по другую сторону железной дороги. Но прошло полчаса, а белых повязок на левой руке не видать и в помине, и группу охватили отупение и вялость, усиливавшиеся вместе с жарой. С военной точки зрения можно было бы говорить о несколько пошатнувшейся дисциплине. Те, кто лежит подальше от сержанта, осмелились расстегнуть важные пуговицы, а из-за некоторых надгробий в небо стали подниматься белые струйки сигаретного дыма, хотя привал еще не объявляли.
О проекте
О подписке
Другие проекты