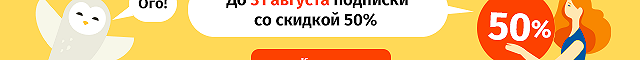
На «этажах» сословной монархии
Могут ли детали личной жизни высших лиц государства, в том числе интимные, сексуальные, быть предметом достояния широкой публики? Недаром известный депутат Государственной думы Наталья Поклонская, отчаянно борясь против показа фильма Алексея Учителя «Матильда» (напомню, именно под этим знаком прошел практически весь год столетия российской революции), сначала выдвигала аргумент, что нельзя трогать личную жизнь Николая II, поскольку он «святой государь», а потом выступила с тезисом, что личная жизнь первых лиц страны в принципе не должна становиться предметом общественного обсуждения. Мой собеседник, доктор исторических наук Игорь Зимин, относится к немногому числу исследователей, которые знают про личную жизнь последних императоров, наверное, практически все. Он – автор целой серии книг, посвященных повседневной жизни императорского двора второй половины XIX – начала ХХ вв.
– Игорь Викторович, как вы считаете, частная жизнь высших лиц неприкосновенна?
– И да и нет. Понятно, что личная жизнь первых лиц страны – что сейчас, что тогда, – с одной стороны, всегда закрыта от посторонних глаз, с другой – она всегда чрезвычайно интересовала обычных людей. И когда проходил определенный срок давности, то детали личной жизни высших лиц государства так или иначе вытаскивались на поверхность.
Как известно, нельзя читать чужие письма. Но в отношении первых лиц традиция такова, что публикуются письма, дневники, переписка, и все это считается совершенно нормальным, очень важным историческим источником… Это важная часть характеристики личности первого лица. Другое дело, что публиковать подробные свидетельства надо деликатно и тактично.
В монархических государствах, где личность правителя имеет особое, сакральное значение, монарх и его семья по определению должны служить образцом морали и нравственности, в том числе и потому, что они являются публичными людьми.
Публичность – это часть профессии любого человека, оказавшегося на вершине власти. Но исторические и личностные реалии подчас таковы, что мораль и нравственность приносятся в жертву политической целесообразности. Например, много ли влияли на Петра I нормы морали и нравственности его времени? Останавливали ли они его? Представляется, что император «прогибал мир» под себя, реализуя собственное представление об абсолютной власти монарха.
Его говорить о XIX в., то представляется, что Романовы по большей части не только следовали сложившимся общественным нормам, но и последовательно их формировали в рамках своего сценария власти. На мой взгляд, первая нормальная семья на русском престоле среди Романовых, начиная с XVIII в., была у Николая I. Что значит нормальная семья? Конечно, есть масса нюансов в определении этого понятия.
Возьмем, к примеру, Петра I. Первый брак закончился ссылкой его жены, Евдокии Лопухиной, в монастырь, второй брак, с Мартой Скавронской, носил морганатический характер. Императрица Елизавета Петровна никогда официально замуж так и не вышла, хотя вариантов, начиная с Людовика XV, было много. Конечно, она долго и счастливо жила с Алексеем Разумовским, а затем с Иваном Шуваловым, но эти связи не носили официального характера.
Что касается Екатерины II – о нормальном браке с Петром III там говорить не приходится, хотя все формальности соблюдены. Брак императора Павла I с Марией Федоровной, столь богатый детьми, осложнен непростым характером государя. Александр I, которого бабушка женила в пятнадцать лет, в конечном счете, остался бездетным и отношения супругов носили весьма непростой характер…
Так что Николай I, со всеми его известными «васильковыми дурачествами», оказался действительно счастливым мужем и отцом. Он с женой любили друг друга, любили и заботились о своих детях. Следы этих счастливых семейных лет легко просматриваются по опубликованным запискам Николая Павловича с 1822 по 1825 г.
Однако когда в жизни монарха появилась Варенька Нелидова, последняя любовь его жизни, то все было обставлено очень тактично. Императрица Александра Федоровна, которая во второй половине 1830-х гг. начала болеть (все-таки одиннадцать беременностей не прошли даром), «отпустила» своего мужа и как бы благословила его внебрачные отношения.
Впрочем, в личной бухгалтерии Николая I мне встречались записи типа: «Девице Герасимовой назначить пенсию 30 рублей». Полагаю, что это след его любовных связей, поскольку у этой девицы Герасимовой отец какой-то мелкий чиновник. Каким образом он мог что-то сделать для императора? Только девица Герасимова могла оказать ему какие-то услуги…
Росшим в же семье Николая I девочкам заранее вкладывали в голову понимание, что есть интересы государства, внешнеполитические и внутриполитические расклады, и, именно исходя из них, будет строиться выбор жениха. Если он будет сопровождаться еще и таким счастьем, как любовь, то это будет просто удачей.
Все-таки обычно в таких делах во главу угла ставилась не любовь, а государственные интересы. Фактически дети императоров в построении личной жизни себе не принадлежали. Они должны жениться или выйти замуж за того, за кого следует. Повезет, если этот брак потом окажется счастливым, но получалось по-всякому. Впрочем, так было во все времена, даже далеко не в императорских семьях…
В те времена ежегодно издавался генеалогический «Готский альманах», в котором указывались все данные по аристократическим родам Европы (родители, год рождения, родственники до седьмого колена). Именно он нередко служил руководством для царственных родителей, как им устроить жизнь своих сыновей и дочерей. Дочь Николая I писала, что, несмотря на свое положение, принцессы достойны сожаления, поскольку «в готском Альманахе указывается год твоего рождения, тебя приезжают смотреть, как лошадь, которая продается». Увы, судьбы дочерей Николая I, которым родители искренно желали счастья, выдавая замуж за особ своего круга, сложились не самым благополучным образом.
Младшая дочь Александра, любимица отца, в девятнадцать лет вышла замуж за принца Фридриха Вильгельма Гессен-Кассельского. Незадолго до свадьбы у нее обнаружили туберкулез. За два месяца до срока Александра Николаевна родила сына, который умер вскоре после рождения, и в тот же день скончалась юная мать. Ее последними слова стали: «Будьте счастливы».
Ольга, самая красивая из дочерей Николая I, засиделась «в девках» до двадцати четырех лет. Ей предлагали разные варианты, но они совершенно отчетливо замешаны на деньгах, на ее бриллиантовом приданном, на внешнеполитическую поддержку России. В конце концов, когда ей уже исполнилось двадцать четыре, отец сказал: мол, к тебе сватается Карл, принц Вюртембергский, как ты решишь, так и будет. Ольга и Карл приходились друг другу троюродными братом и сестрой. И она вышла замуж, как потом говорили, «за ученого дурака». У него за плечами было два университета, но он больше смотрел на своих адъютантов, чем на жену, и в результате брак остался бездетным. То есть родители хотели ей счастья…
– Как известно, сын Николая I – император Александр II – человек весьма любвеобильный. И история его отношений с княгиней Екатериной Долгоруковой, ставшей княгиней Юрьевской, давно уже, что говорится, стала притчей во языцех.
– Да уж, «умиление моего мужа» – так супруга Александра II Мария Александровна называла многочисленные любовные увлечения своего супруга. Вот уж она-то действительно святая женщина. Об отношениях сорокадевятилетнего Александра II и семнадцатилетней Екатерины Долгоруковой принято рассказывать исключительно в романтическом ключе. Но, на мой взгляд, отношение княжны Екатерины Долгоруковой к Александру II – это вообще что-то похожее на бизнес-проект, плотно замешенный на деньгах…
Александр II еще в 1876 г. написал завещание, в котором оставил любовнице три миллиона рублей, положенных на ее счет в банке. Женившись на Долгоруковой через сорок дней после смерти супруги, особо оговорил ее право проживать в Зимнем дворце со своими детьми. В 1881 г. началась подготовка к коронации светлейшей княгини Екатерины Юрьевской (так теперь именовалась Долгорукова). Все у нее могло случиться, но 1 марта Александр II погиб в результате покушения террористов «Народной воли».
Судя по всему, княгиня Юрьевская, уезжая в начале 1882 г. из России в Ниццу, поставила ценой своего отъезда ряд условий. Состоялись буквально «высочайшие торги». В результате, кроме трех миллионов рублей, полученных по завещанию от Александра II, она получила еще и ежегодную ренту в сто тысяч рублей на себя и сто тысяч на своих детей. Далее, в обмен на право проживания в Зимнем дворце, дарованное княгине Юрьевской по завещанию Александра II (Александр III согласиться с этим категорически не мог), ей подарили особняк Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице, который именовали Малым Мраморным дворцом, оцениваемый в 1900-х гг. в полтора – два миллиона.
Кроме этого, по условиям соглашения, детям княгини Юрьевской по достижении совершеннолетия из средств Кабинета следовали ежегодные секретные «выдачи». Так, сын Александра II от второго брака светлейший князь Георгий Александрович Юрьевский ежегодно получал по сорок тысяч рублей. Не забыли и о его сестрах. Совершенно очевидно, что Александр III предпочел откупиться, лишь бы удалить из страны княгиню Юрьевскую.
Некоторое время в Ницце княгиня Юрьевская вела себя достаточно «тихо», но, начиная с 1900 г., стала буквально терроризировать императора Николая II и министра Императорского двора Фредерикса бесконечными просьбами о денежной помощи. Весной того года она написала письмо на имя Николая II с просьбой вновь оказать ей материальную поддержку, поскольку, мол, дети выросли и расходы их тоже возросли. Юрьевская просила выделить и себе единовременную крупную сумму.
Николая II это совершенно не устраивало, поскольку за просьбой могла последовать следующая, а ему хотелось «закрыть проблему». В августе 1900 г. Фредерикс отправил письмо с перечислением жестких условий, на которых Николай II соглашался увеличить ежегодную секретную пенсию морганатической жене своего деда.
Во-первых, княгиня должна положить в Госбанк неприкосновенный капитал в один миллион рублей, «в самое непродолжительное время» довести его до двух миллионов и жить на проценты с капитала. Зная, что у княгини нет таких денег, предлагалось продать ее дом в Петербурге на Гагаринской улице и вырученные деньги внести в банк.
Во-вторых, император, увеличивая ежегодную пенсию Юрьевской со ста до двухсот тысяч, предупреждал, что впредь любые обращения ее сына князя Григория Юрьевского «об уплате его долгов… безусловно, и при каких бы то ни было условиях Государем Императором будут оставлены без удовлетворения».
В-третьих, император выражал надежду, что сама княгиня и ее дети будут жить «соответственно получаемым им средствам».
Однако на этом дело не кончилось. В 1908 г., встретившись за границей с великим князем Алексеем Александровичем, Юрьевская заявила ему, что буквально за несколько дней до смерти Александр II пообещал ей еще три миллиона и об этом есть запись в его ежедневнике. Пересмотрев портфель с бумагами Александра II, в котором хранилось его завещание, великий князь никаких записных книжек не обнаружил. Однако речь шла об очень крупной сумме, поэтому он решил продолжить поиски среди неразобранных бумаг Гатчинского дворца, то есть фактически в доме вдовствующей императрицы Марии Федоровны.
К лету 1909 г. искомые «памятные книжки» императора Александра II за 1880 и 1881 гг. нашли. Их обнаружили в Готической библиотеке Николая II в Зимнем дворце. Заведующий Императорскими библиотеками Щеглов никаких отметок «о трех миллионах» не обнаружил. Казалось бы, история закончилась, но светлейшая княгиня Юрьевская не успокоилась.
Осенью 1909 г. она стала буквально засыпать Фредерикса отчаянными просьбами о материальной помощи: «Мое положение безвыходное; дни сосчитаны до краха. Верьте искренности этих слов и то же моей к Вам глубокой благодарности». Послания вызывали раздражение при дворе и оставались без ответа.
В одном из писем Фредериксу она писала, что, возможно, Александр II и не успел сделать письменное распоряжение о даровании ей дополнительных трех миллионов рублей, «но, во всяком случае, факт остается фактом, и я обращалась и обращаюсь к Его Императорскому Величеству по этому поводу не на основании каких-либо юридических доказательств, а взываю к чувствам нравственного долга».
В конце того же года княгиня Юрьевская заявила, что выставляет дом «на Гагаринской» на публичные торги со всеми находящимися в нем вещами. Дом и все в нем находящееся она оценила в два миллиона. Изюминка этого хода заключалась в том, что на торги выставлялись и все личные вещи Александра II, хранившиеся в этом доме. К тому времени он фактически превратился в музей Александра II. Ко всем вещам, к которым притрагивался император, прикрепили бронзовые таблички с соответствующими надписями. На продажу выставлялся даже ночной горшок из спальни императора, правда, без бронзовой таблички.
Тексты готовящегося аукционного каталога были следующие: «Кровать двуспальная под черное дерево. В изголовье кровати бронзовая дощечка: „Проведена последняя ночь жизни до 1 марта 1881 г. государем Императором Александром II“; Матрац пружинный, матрац волосяной, шкафчик ночной под черное дерево, столик десертный под черное дерево. На столике надпись „Государь император Александр II у зеркала, где причесывался до 1 марта 1881 г.“».
Допустить аукционные торги по таким «царским» лотам Императорский двор никак не мог – это был бы сильнейший удар по репутации и престижу Дома Романовых. В результате этой «атаки» дело с домом спустили «на тормозах», и осенью 1909 г. к ренте светлейшей княгини Юрьевской добавили еще пятьдесят тысяч.
В начале 1910 г. для давления на Фредерикса светлейшая княгиня использовала и личные письма Александра II, обращенные к ней. Юрьевская через своего адвоката сообщила министру, что желает выставить на публичные торги свою интимную переписку с Александром II – той поры, когда он был еще женат на Марии Александровне. Публикация даже небольших отрывков из этих писем привела бы тогда к колоссальному скандалу.
О проекте
О подписке